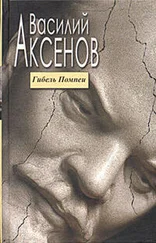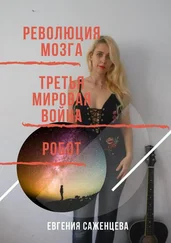Дождь закончился в конце марта, незаметно, ночью. Перетруженная канализация еще с неделю булькала и всхлипывала подо всеми мостовыми, город еще с неделю стоял темный, слитный, как будто бы смазанный, — но отдельное небо над ним вовсю уже сверкало золотом и кобальтом, — и в нем розовые белые башни. Гольдштейн с Супер-Рабыней Дуней пошли с утра на заречную барахолку — покупать Гольдштейну велосипед. Ханси бежал сзади, ожесточенно дыша и рывочками, по-индючьи, двигая в разные стороны прозрачной головкой. В детский сад его не брали по причине отсутствия прописки. Дуня, которую, в сущности, звали Терезой-Луизой, взмахивала широкими полотняными рукавами и, возмущенно переходя иногда на нижнерейнский диалект, клеймила недостаток социальной защиты. «Разве я не сфера услуг?! — горячилась она, отрочески тесными губами с затрудненным наслаждением выталкивая толстоватые слова. — Да я бы платила им, засранцам, и налоги всякие, и профсоюзные взносы, за милую душу, пожалуйста!» — пугала она своей извращенностью толпы прохожих сомнабул, колтыхавшихся вдоль улиц, как белье на просушке. Когда сквозь ратушную площадь вышли на набережную странно выгнувшейся, приподнявшейся, расширившейся реки, сейчас же с ясного неба ударил гром. Дуня оборвалась на полуслове и уцепилась правой рукой за Гольдштейново темя.
— Не бойся, это полуденная пушка [2] Начиная с этого момента внимательный читатель наблюдает за постепенным вытеснением реалий Франкфурта реалиями Ленинграда — вплоть до полного замещения одного города другим ( прим. автора ).
, — медленно сказал Гольдштейн, чувствуя сквозь волосы неравномерный холод ее ладони. Перед ним мелькнул оседающий белый рукав, обдавший ветром и оголивший длинную руку от чуть потресканного красноватого локтя до бледного вогнутого запястья с двумя маленькими круглыми рожками по краям. На ее было ровно десять.
— Разница во времени, — объяснил Гольдштейн.
Среди свежеумытых банковских башен ослепительно сияла тончайшая золотая игла низкостенной крепости. Велосипед был «Орленок» без звонка и насоса, и он все поскрипывал и побрякивал, и назад его вели по мосту осторожно, осторожно усадив взбудораженного Ханси на обколупанной раме. Дуня, разгорячась двухчасовой торговлей с продавцом, жестоковыйным поляком, поголовно заросшим табачной крошкой, расстегнула свою крохотную расшитую жилетку, закатала до плеч рукава поколенной рубахи и даже зачем-то подвернула до середины голени прямые черносуконные брюки. «Надо было еще поторговаться! Он бы и за пять отдал!» — убеждала она упертого в руль Гольдштейна. Гольдштейн с любовью оборачивался к ее нежно-румяному продолговатому лицу со смелыми, глупыми, чуть раскосыми глазами и кивал. На ратушной площади, на Римской горе, решили перекурить — велосипед вогнали в многоместное железное стойло перед вращаемой дверью мороженицы, а сами сели снаружи.
— Памятник какой-то странный, — сказала Дуня, рассеянно гладя на площадь. — Никогда не замечала. Смотри, конь на двух ногах стоит. — Действительно, огромный зеленый всадник на двух мозолистых копытах иноходью стоял — передом к ратуше, задом к собору. Принесли мороженого Гольдштейну и Ханси, Дуне — пиво. Прохладившись, вернулись к жалобам Дуни, юной суперрабыни из «Эксцельсиора». Все у нее было через жопу, сетовала она (и солнечная пенка на ее губах беззвучно рвалась и лопалась), и даже учеба на домину никак не задавалась, и вообще ее перевели из домин в учительницы, резиновый китель и фуражку с черепом отобрали, зато выдали английское платье с белым воротничком, хорошенькое… но клиентов осталось — один-единственный, и тот пацан, твоего возраста или чуть постарше. Мамаша твоя хоть знает, спрашиваю, что ты здесь? Она, говорит, меня и при-вела, — там сидит, в приемной. Я к замочной скважине: и правда, этакая дама в шляпе, шуба полосатая, чулки белые, шелковые, юбка в клеточку выше колен — и с бантом на животе. Ладно, говорю, раздевайся. Совсем, спрашивает. А как еще, идиотина! — ору, а сама чуть не плачу. Я ему хрясь, хрясь поперек спины указкой, а он стоит на четвереньках — маленький, толстый, белобрысый, весь дрожит и пукает. Схватила его сзади за яички, крошечные, как у котенка — где яйца украл, кричу, уголовник, а он все только ежится. …Странно, пиписька висит, а залупленная… Так с тех пор и ходит, несчастный; спасибо, без мамочки —…слава Богу, с недавнего времени хоть кончать начал… Но разве ж это клиент?! Разве ж это жизнь? — то меня лупят, то я; а по-человечески, внутрь, — с самого Хансиного зачатия не имела… Гольдштейн облизнул ложечку и кивнул. Дуня вдруг замолчала, странно — коротко и жестко — посмотрела на него, странно — коротко и шумно — втянула в себя пиво и отвернулась.
Читать дальше




![Андрей Загорцев - Третья мировая. Трилогия[СИ]](/books/135760/andrej-zagorcev-tretya-mirovaya-trilogiya-si-thumb.webp)