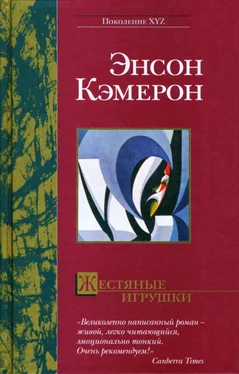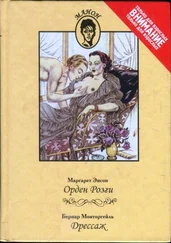— Привет, — произносит полицейская физиономия. — Собрался куда-то?
И я надеюсь, что он не начнет сыпать предположениями, как это делал только что Бен Роджерс, завершая свой список совсем уж дикими пунктами назначения, как это делает сейчас Бен Роджерс, орущий из своего самого лучшего домика на дереве: «В тюрьму?» Потому что очень уж много времени пройдет, прежде чем эта полицейская физиономия догадается: к маме.
Розовое полицейское лицо открывает уже рот, чтобы задать мне новый вопрос — который, как я предполагаю, прозвучит вроде: «В Беналлу?» — как у Бена Роджерса, ведь Беналла расположена по соседству и известна всем. Рот его открывается еще шире, но взгляд упирается куда-то за моей спиной, куда-то у меня в доме, и это что-то заставляет его закрыть рот, так и не задав вопрос про Беналлу, и заставляет его кивнуть в сторону дома, и кивнуть в мою сторону, и помахать двумя пальцами — типа о’кей, и улыбнуться мне точно такой же улыбкой, как те проезжавшие мимо меня матери. Он врубает первую передачу и уезжает. И я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не вытащить из-за спины руку с выразительно поднятым вверх средним пальцем.
Его шаги громко хрустят по белому гравию дорожки у меня за спиной. Тяжелые шаги. Он несет ее на руках. Мне даже не нужно оглядываться, чтобы видеть ее. Я-то знаю, что только она может быть такой тяжелой. Я разглядываю свое походное снаряжение. Красный чемодан из искусственной кожи, покрытой сетью искусственных морщинок, будто эту кожу содрали с какого-то крупного африканского травоядного. Может, с одного из этих обреченных быть благородными слонов, которые слышат нас, верещащих наподобие воробьиного общества. У него позолоченные пряжки, и надписи на наклейках утверждают, что я побывал в этих трех городах. Это шутка такая. Моя попытка путешествовать. Мой смехотворный мираж — поездка к матери, куда все отказываются меня везти.
Бен Роджерс — это увеличительное стекло. Его глаза жгут меня, собирая взгляды всего города. От меня начинает идти дым, в ушах стоит тошнотворный звон, а в нос бьет тошнотворный запах. От этого меня тошнит.
Он наслаждается этим зрелищем, впитывает его, чтобы потом рассказывать и смеяться над этим на переменках в государственной школе на Гоури-стрит.
Глядя сверху вниз из своего самого лучшего домика на дереве, Бен Роджерс видит массивного мужчину, выходящего из большого синего дома напротив. Видит, как тот медленно подходит к мальчику, который не замечает его приближения. Видит, как мужчина наклоняется, и кладет на плечо мальчику руку, которой тот, похоже, не замечает. Видит, как мужчина говорит мальчику что-то, и ждет, и говорит ему еще что-то. Видит, как мальчика тошнит в кювет от того, что он услышал, — от того, что тот знал и раньше, еще тогда, когда Бен Роджерс начал выкрикивать из своего самого лучшего домика на дереве сказочные пункты назначения. От того, что осенило его как раз в ту минуту. От того, что Тимбукту, и остров Гдетотам, и страна Нод, и Морнингтаун в черт-те знает скольких милях отсюда, и моя мама — это пригороды одного и того же места.
Он видит, как мужчина говорит тому мальчику: «Она умерла, — и задирает голову, и смотрит на небо сквозь паутину листвы. — Умерла, когда ты был совсем еще маленьким». Видит, как мужчина передает тело мальчику, который сгибается под его весом, и падает рядом со своим красным чемоданом, и его тошнит, и он плачет. Видит, как мужчина поднимает мальчика одной рукой, а чемодан другой, и несет их по дорожке под двумя здоровенными пальмами обратно в дом.
* * *
А то, что мужчина передал тому мальчику, остается лежать на тротуаре — тело голубоглазой «Вольво»-жены с волосами, светлеющими в вечерних сумерках. С бирюзовым шелковым платком на шее и крошечными светлыми волосками на руках. Которая произносила «Ю» как «Ы» и называла меня Унтером вместо Хантера, и от которой пахло свежесрезанными розами, и которая убирала волосы с моего лица, и которая придвигала свои голубые глаза и свой аромат свежесрезанных роз так близко ко мне, и которая рассказывала мне сказки про свое далекое северное Рождество из снега и льда. «Вольво»-жена умерла в тот день, потому что «Вольво»-жена и была моей воображаемой матерью с того самого Рождества, когда она улыбнулась отцу той легкой улыбкой. И смерила его взглядом, поднимая бокал вина, и произнесла ему это свое ироничное: «Счастливого Рождества, Грузобъединенные Нации». Ради меня.
Потому что фотографий моей матери нет. Вот вам история женщины, которая родилась, скажем, где-то в конце тридцатых, и умерла в шестьдесят третьем, и ни разу не снялась на фото. Что говорит кое-что о людях, отсеивающих мгновения жизни, чтобы нести их дальше, в будущее, своим потомкам. Никто из них не отсеял ни одного мгновения жизни моей матери, чтобы захватить в будущее. В вечность.
Читать дальше