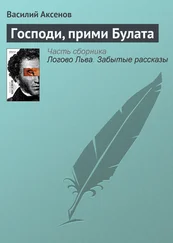– Верно.
– Современность – вещь коварная и губительная. При неосторожном использовании может, как кислота, разъесть художественную ткань вымысла. Вы рискнули писать о современности, и временная пауза между действием романа и событиями наших дней – минуты.
– По правде, я начинал этот роман, не зная, какой он будет – современный или какой-то иной. Сначала захотелось описать аллеи тамарисков, и где-то там сидит старый сочинитель и наблюдает за всем, что происходит вокруг. У него предчувствие; он что-то сочинит, но пока не ведает, что это будет. Все же роман – не просто телетайпная лента событий, как в газете. В романе есть постоянный возврат в прошлое, не далекое, но все-таки прошлое.
– Единственный выпрыгнувший из прошлого – мальчик, которого все принимают за англичанина. Его первое появление в волнах океана (как рождение Афродиты – из пены морской) напомнило персонажа с полотна эпохи Возрождения, но не в идиллической гармонии мира, а экспрессивно…
– Да-да-да. Отчасти это парафраз моей повести для детей «Мой дедушка памятник», написанной в 1972 году. Там автор выходит на набережную Коктебеля, видит 12-летнего мальчика и начинает с ним говорить.
– Это и была отправная точка романа?
– Вначале я думал, что такой же мальчик и будет главным лицом всего романа: вокруг него и начнут раскручиваться все события. Но потом почувствовал, что это не совсем то. Очевидно, тут сыграла роль история жизни Ходорковского. Конечно, отчасти, это не значит, что роман возник из желания описать все это, но какие-то отзвуки этой истории возникают. Стало ясно, что в романе один из героев должен оказаться в тюрьме. И этот кто-то в тюрьме начинает вспоминать всю свою жизнь. Тогда я очень скоро понял, что это как раз отец моего юного героя.
– То есть мальчик из далекого теперь Коктебеля сейчас сидит в тюрьме.
– Да, тот самый мальчик, с которым 35 лет назад встретился Василий Павлович. Я начал прослеживать моего героя в «бликах» 78-го года, 80-го, 85-го, 91-го… Конечно, такой мальчик, как Геннадий Стратафонтов, а именно так звали моего героя той повести, никуда больше не мог пойти, как именно в комсомол. И он стал таким вундеркиндом режима, империи. Именно его в конце 70-х годов послали в Америку для участия в движении «Молодые лидеры мира», а дальше – непременно МГИМО. Институту международных отношений нужны были такие приближенные и надежные… А вот молодой герой оказывается вовсе не английским мальчиком Ником, а русским Никодимчиком, сыном Гена Стратова. И в общем, это все не просто сегодняшний день с самыми актуальными событиями. Вы видите, время отходит назад…
– Африка – континент, с которым герой романа связывает надежды рождения совершенной человеческой расы. Африка нуждается в великом идеалисте, и вы описываете бывших комсомольцев, не жалея красок, наделяя их идеальными качествами.
– Во всяком случае, человеческими. Вы знаете, Ира, я помню, как я в 69-м году приехал в Академгородок новосибирский и провел там несколько недель. Я познакомился тогда с комсомольцами. Раньше к ним у меня было очень недоверчивое отношение: все же действительно в основном это была конъюнктурная, какая-то хапужная группа! А за их плечами вообще – страшная палаческая комса времен Гражданской войны. Но вот не только я, многие замечали, что к концу 60-х уже появились в комсомоле странные, другие люди.
– Редкие.
– Очень редкие. Они любили джаз. Они любили современную живопись, поэзию, это вообще… вся эта поэтическая лихорадка и новая проза… Я помню, был 62-й год, после просмотра фильма по моему «Звездному билету» нас пригласил Лен Карпинский – секретарь ЦК комсомола. Мы с ним беседуем, и я осознаю, что он – просто один из нас – человек совсем другого направления. Это он-то, сын любимца партии Карпинского, сам рожден в высшей номенклатуре и так далее. И в то же время говорит о вещах, о которых ни в какой газете никогда не прочтешь. Мы говорили о недавнем Новочеркасском восстании. Страшная тема. Причем он, конечно, не одобрял это восстание, но картина, которую он описал нам – мне и режиссеру Зархи, – была картиной молодежного восстания. Среди прочего, он, например, рассказывал о молодых мотоциклистах, которые там появились и всюду сновали, осуществляя связь баррикадчиков. Помимо мотоциклов у них были любительские радиостанции. В эфире мелькали сообщения: «Говорит радиостанция “Бесстрашный Орел”» и т. д. Я тогда подумал: вот бы об этом написать роман. Беседа была почти доверительная, правда, все же закончилась она фразой: «Так или иначе, но, товарищи, я должен вам сказать, что если фильм будет такой, как роман, комсомол выскажется против». Потом я с ним вновь познакомился в компании моих друзей. Вы знаете, он стал диссидентом, его выгнали из партии… И вот такие появлялись и в Новосибирске. Они уже в 69-м году организовали первое капиталистическое предприятие, которое называлось «Факел». Это предприятие осуществляло первый наем, искало соответствующих ученых в Академгородке и подписывало с ними контракты. Заводы и различные производственные учреждения давали им заказы на всевозможные разработки. Ученые получали деньги, в разы большие, чем они когда-либо могли заработать. А финансирование первичное начиналось с фондов комсомола, которые шли под грифом «совершенно секретно». Возникали различные клубы, например, клуб «Интеграл». В нем, помню, проводили дискуссию: «Правомочна ли однопартийная политическая система?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
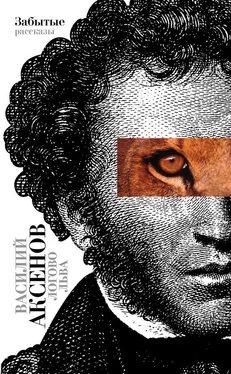


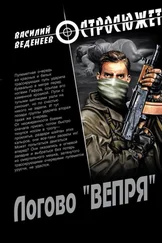
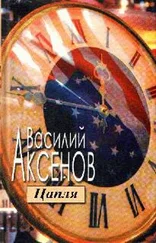
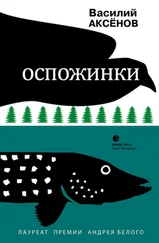
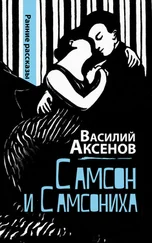

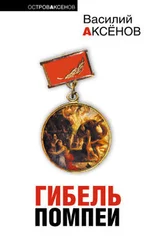

![Василий Аксенов - На полпути к Луне [книга рассказов]](/books/414303/vasilij-aksenov-na-polputi-k-lune-kniga-rasskazov-thumb.webp)