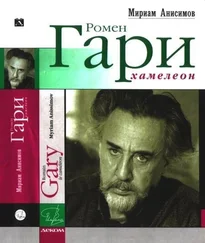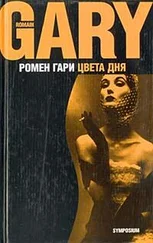Высказав это, я, разумеется, продолжаю свои тренировки.
Мне еще случается выйти из своего дома на холме, и там, над заливом в Сан-Франциско, на виду у всех, средь бела дня, жонглировать тремя апельсинами — это все, на что я сегодня способен.
Это не вызов. Это просто утверждение собственного достоинства.
Я видел, как великий Растелли, стоя одной ногой на горлышке бутылки, с тростью на носу, с мячом на трости, со стаканом воды на мяче, крутил два обруча другой ногой и при этом жонглировал семью шариками.
Думаю, что видел тогда миг наивысшего и бесспорного мастерства, миг полной победы человека над своей судьбой, но Растелли умер через несколько месяцев от отчаяния, после того как покинул арену, так и не сумев поймать восьмой мячик — последний, единственный, который был для него важен.
Думаю, что если бы я мог склониться над его смертным ложем, он бы мне наверняка поведал обо всем, а поскольку мне тогда было всего шестнадцать лет, это, возможно, уберегло бы мою жизнь от напрасных усилий и провалов.
Меня бы огорчило, если бы вы заключили из всего вышесказанного, что я не был счастлив. Это была бы крайне досадная ошибка. Я знавал, да и все еще познаю в своей жизни моменты небывалого счастья. С самого детства, например, я всегда любил соленые огурцы, не корнишоны, а настоящие огурцы, несравненные и единственные, которые только и называются по-русски огурцами. Я добывал их всегда и повсюду. Часто я покупаю себе фунт, устраиваюсь где-нибудь на солнышке, на морском берегу или где угодно, на тротуаре или скамейке, кусаю свой огурец, и вот — я совершенно счастлив. Я сижу там, на солнышке, с умиротворенным сердцем, дружелюбно поглядывая на вещи и на людей, и знаю, что жить все-таки стоит, что счастье доступно, что достаточно всего лишь найти свое глубинное призвание и предаться тому, что любишь, с полной самоотдачей.
Мать растроганно и признательно наблюдала за моими потугами помочь ей. Возвращаясь домой с каким-нибудь вытертым ковром или подержанной лампой под мышкой, которые предполагала перепродать, и обнаружив меня в комнате, жонглирующим мячиками, она не ошибалась насчет причин моего усердия. Садилась, глядела, как я работаю, и заявляла:
— Ты будешь великим артистом! Это тебе мать говорит.
Ее пророчество чуть не сбылось. Наш класс устраивал в школе театральную постановку, и после жесткого отбора главная роль в драматической поэме Мицкевича «Конрад Валленрод» [74] «Конрад Валленрод » — см. примеч. 72
досталась мне, несмотря на сильный русский акцент, с которым я говорил по-польски. И в этом отборе я победил не случайно.
Каждый вечер, закончив свою беготню по делам и приготовив ужин, мать в течение часа или двух заставляла меня зубрить роль. Она выучила ее наизусть и для начала сыграла ее сама, чтобы настроить меня как следует. В этой декламации она показала все, на что способна, после чего предложила мне повторить текст, подражая ее жестам, позам и интонациям. Роль была такая драматическая, что дальше некуда, поэтому часов около одиннадцати вечера измученные соседи начинали сердиться и требовать тишины. Моя мать не отличалась особой покладистостью, так что в коридорах стали разыгрываться незабываемые сцены, в которых, под впечатлением от благородной трагической поэмы великого поэта, она превосходила самое себя в гневных обличениях, бросании вызова и пламенных тирадах. Результат не заставил себя ждать, и за несколько дней до представления нас попросили убраться восвояси вместе с нашей декламацией. Мы перебрались жить к какой-то родственнице матери, в квартиру, занятую адвокатом и его сестрой, дантисткой: спали мы сначала в приемной, потом в кабинете, и каждое утро приходилось освобождать место до прихода клиентов и пациентов.
Представление наконец состоялось, и я стяжал в тот вечер свой первый сценический успех. После спектакля моя мать, еще взволнованная рукоплесканиями, даже не осушив слезы на лице, повела меня в кондитерскую кормить пирожными. Она тогда еще не избавилась от привычки держать меня за руку, когда мы шли по улице, а поскольку мне было уже одиннадцать с половиной, я страшно этого стеснялся и всегда старался вежливо высвободить руку под каким-нибудь благовидным предлогом, а затем «забывал» подать ее снова. Но мать все равно опять ею завладевала и крепко держала в своей.
Соседние с Познанской улицы ближе к вечеру кишели проститутками. Их собирались целые тучи, особенно на Хмельной улице, и мы с матерью были для этих славных девиц привычным зрелищем. Когда мы проходили через их строй, держась за руки, они всегда почтительно расступались, с похвалой отзываясь о моей приятной наружности. Если же я проходил один, частенько меня останавливали, задавали вопросы о моей матери, спрашивали, почему она не выходит снова замуж, угощали конфетами, а одна из них, рыжая коротышка с ногами колесом, всегда чмокала меня в щеку, после чего, попросив у меня же платок, тщательно ее вытирала. Не знаю, как новость, что я играю главную роль в нашем школьном спектакле, распространилась по панели, но подозреваю в этом мою мать, без нее тут явно не обошлось, во всяком случае, по дороге в кондитерскую нас окружили девицы и с беспокойством забросали вопросами об оказанном мне приеме. Мать отвечала напрямик, без ложной скромности, и в течение последующих дней всякий раз, как я проходил по Хмельной улице, на меня обрушивался дождь подарков. Мне дарили маленькие крестики и медальки с изображением святых, четки, перочинные ножики, плитки шоколада и статуэтки Пресвятой Девы. Кроме того, меня неоднократно затаскивали в соседнюю колбасную лавочку, где я под их восхищенными взорами обжирался солеными огурцами.
Читать дальше