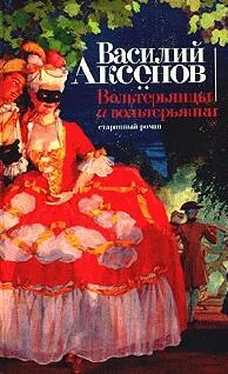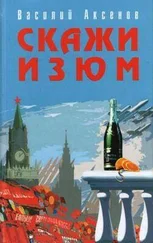Что касается последнего, то для него, в общем-то, все было ясно: он женится на порченой, изнасилованной, униженной до самого последнего предела, то есть именно ему суженной, а стало быть, она и есть Клаудия! И он с ней не будет мучиться всю жизнь, как предрекает черт запечный Сорокапуст, а будет всю жизнь наслаждаться высокой любовию! К тому же теперь уж есть приметное отличие от сестры: на шее остались две вмятины, как будто следы от клыков.
В общем, в конце концов разобрались и в один день пошли под венец в присутствии разного прочего блистательного уношества, а также высоких чинов армии и флота; сказывали, что на церемонии побывал и сам барон Фон-Фигин, укрывшийся под машкерадом знатной дамы. У Коли и Фио благодаря сурьезной опытности первого, в общем-то, получилась щастливая, или, скажем так, сносная, брачная ночь, а в дальнейшем пошло еще лучше, или, так скажем, не хуже. Что касается Миши и Клоди (будем уж ее так теперь решительно называть в ходе эпилога), то у них все вышло сложнее. Никакого «бешенства матки» у юной госпожи Земсковой не обнаружилось, напротив, матка, как и все другие сокровенные органы, после ужасного насилия погрузилась в состояние полнейшего отвержения любовных утех. Даже и самое нежное к сим органам прикосновение вызывало у Клоди мгновенную окаменелость и болезненный стон. И тем не менее молодожены любили друг друга до самозабвения, до слез немыслимого щастья. «Мишамой, — бормотала она, положив свою головку на довольно уже курчавую грудь своего героя, — я люблю тебя сейчас, как, помнишь, тогда ночью на море, на баркасе тебя любила, как будто мы с тобою одно существо, как будто еще не разделились, как будто не изгнаны!» И он отвечал ей, лаская ее мочки ушей, носик, щечки, ключицы, ручки, локотки, но, Боже упаси, не прикасаясь к межножию: «Клодимоя, я люблю тебя даже не вечной, а вневременною любовию, и нас с тобой ничто не разделит!»
У Коли и Фио начали рождаться детки: сначала мальчик, потом девочка, потом близнецы, девочка и мальчик. У братской пары, увы, детки не рождались, пока по окончании Турецкой кампании 1770 года, то есть когда Мишемою исполнилось уже двадцать шесть, а Клодимоей соответственно двадцать один, не отправились они повидать Гран-Пера в отдаленный Сиам.
***
Ксенопонт Петропавлович как кавалер самой почетной сиамской награды, Ордена Раннего Солнца, получил в Сиаме целую провинцию земли. Ежели говорить по чести, Ксенопонт Петропавлович в 1764 году, к концу экспедиции, известной под именем «Остзейское кумпанейство», чувствовал себя, а вернее, даже и не себя, а то, что выше самого себя, то есть свое достоинство, изрядно ущемленным. Ведь так либо иначе, однакож всю ту волшебную неделю на острове Оттец он старался ловить взгляды пленипотенциарного посланника, хоть и понимал, что тот его, как говорили тогда в артиллерийских войсках, «вплотную не видит». А ведь задолго до начала экспедиции Никита Иванович Панин, увещевая любимца Европы взяться за сие многотрудное дело, ободрял его самым высшим благорасположением и заверял, что он войдет в историю полноправным участником вольтеровских бесед.
Что же получилось? Если уж удавалось многолетнему уловителю взглядов поймать взгляд барона, тут же виделась в глазах того хладная и властная длань, как бы упрежающая: «Не в свои сани не садись!» Да и друг Вольтер, уж на что егоза егозою, почуял сей нюанс высшего фаворита по отношению к «своему Ксено» и понял, что тому тут без шанса примазаться к энциклопедистам, сиречь послужить своей любимой музе Клио. Так и третировали его с утонченными, но изрядно жалящими улыбочками, будто управляющего поместьем, быть может полагая, что сия упрощенная натура того непроизнесенного третмана не постигнет.
Постиг, судари мои! Вот вам-то знатно было б понять, что Афсиомский хоть тайны государственной и под пыткой не выдаст, однако ж и к прелестным ножкам Государыни не повергнется с жалобой на непреемственность барона Фон-Фигина; честь старинного византийского рода не позволит!
С теми же ущемленными сентиментами, трепеща, хоть и скрываясь за неприступностью челюсти, приблизился тогда Ксенопонт Петропавлович с манускриптом «Шествия Василиска» к тому, кого еще недавно полагал доверительным другом, к Вольтеру. Ну, сему блаженному жантильому лишь бы не уронить репутацию изящества и любезности; сочинение берет, однако ясно видно, что читать не ласкается. Где ж пределы несурьезности сего века, милостивые государи? Ведь ради просвещенности поворачиваюсь плечом к патриотам родины, к самому Александру, как его отчество, Сумарокову! Почему два писателя не могут обняться в дружеском умилении? Откуда ж берется в глазах огонек вечной иронии, сей сестры ехидства и развратницы мысли?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу