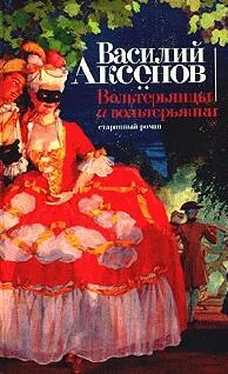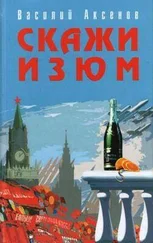Пусть теперь Екатерина увидит, что на ней свет клином не сошелся и что Вольтер — это не только влюбленный старик, но также и тот, кто в обиходе зовется «светочем человечества»!
Недаром, нет, недаром из Свиного Мунда, чтобы забрать его на борт, приходит лучший фрегат датского королевского флота «Золотая утка»! Датская крона не уступит в твердости царскому рублю! Писатели ваши, Мадам, — это жалкие придворные прихвостни, в то время как Вольтер — независимый богач, коего еще надо упрашивать принять многотысячные дары! Пусть Бюффон дрожит перед всеми этими шкатулками с коллекциями медалей, мехами и сибирскими артефактами. Вольтер лишь сдержанно поблагодарит и передаст сопровождающим.
Он прогуливался по опустевшим галереям замка Доттеринк-Моттеринк, из коего по отбытии барона Фон-Фигина испарились даже и привидения, если не считать вконец уже исстрадавшихся чертиков Ферне. Италия прекратила навещать здешние берега. Кончился июль, и вместе с августовской серой прозрачностью в контурах острова и в низких течениях волн на мелководьях стала преобладать специфическая балтийская меланхолия. Тут все так расположено, думал Вольтер, что кажется, будто видимый мир пересекается с невидимым. Иногда на закате, когда красное медленно переплавляется в черное, едва удерживаешься, чтобы не схватиться за голову и не исторгнуть бессмысленный от ужаса вопль. В другое время проходишь мимо дерева и вдруг понимаешь, что это вовсе не дерево, прежде всего потому, что оно само не знает, что оно дерево, как ты и сам не знаешь, кто ты таков.
Балтика может в будущем стать бассейном филозофии благодаря склонности ее народов, во-первых, к специфической меланхолии, во-вторых, к особой тупиковости сознания и, в-третьих, к пиву. Сюда придут своего рода северные аватары. Предположим, в Штеттине, где всего лишь тридцать пять лет назад родилась Екатерина, появится настоящий, не то что я, великий филозоф замкнутого круга жизни. В Кенигсберге, отравленном колдунами, возникнет человек, который осмелится сказать о непознаваемости вещей. В Копенгагене, куда мы сейчас отправляемся, будет жить какой-нибудь то ли нормальный, то ли калека, предчувствующий окончательное пожарище. Так или иначе, но сии мыслители пребудут вдали от парижских дамских салонов.
***
За день до отбытия пришел генерал Афсиомский, «дорогой Ксено», и поклялся Вольтеру в вечной дружбе и в глубочайшей благодарности, кою будет испытывать к нему передовая, то есть «вольтерьянская», Россия. И лишь известная всему миру вольтеровская любезность помешала послать его к чертям. К тому же два чертенка уже сидели на плечах графа Рязанского и заглядывали ему в уши, хоть он их и не видел.
Вслед за этим «Ксено» сказал, что в соответствии с договором Вольтера до самого Ферне будет сопровождать российский эскорт во главе с полюбившимися ему кавалерами Буало и Террано, на коих, как ты и сам знаешь, мой Вольтер, можно в высшей степени положиться.
И наконец, третье, мой мэтр и друг, то, что не доверю, кроме тебя, никому, даже и самому высочайшему лицу, вот этот карне мягкой бумаги; здесь мое всё. «Не иначе как векселя», — улыбнулся филозоф.
«Несравненно выше, чем векселя, — с грустным достоинством произнес секретник. — Здесь повесть о путешествиях моего альтер эго, благородного византийского дворянина по имени Ксенофонт Василиск. Как писатель писателя, прошу тебя прочесть и написать мне о своих впечатлениях. Сдается мне, что сия исповедь мятущегося духа произведет в Европе оглушительный отклик». — «Ксено, если ты уже знаешь, какой будет отклик, зачем тебе мои впечатления?» — с притворной туповатостью удивился Вольтер. «Вот именно с твоими впечатлениями в виде предисловия сии записки и произведут соответствующий отклик», — с притворной наивностью ответствовал генерал. «Куда же мне послать впечатления? Ведь ты или твое второе „я“, как я понимаю, вскоре отправитесь в очередное марко-половское или колумбовское путешествие», — предположил Вольтер. «Просто оставь листок в конверте на окне своего кабинета в Ферне и отвори фортку», — скромно предложил граф Рязанский. На том они расстались.
***
Грусть Вольтера, или, если угодно, его новая «балтийская меланхолия», еще больше усилилась, когда он поднялся на борт фрегата «Гюльдендаль». Он чувствовал, что закрывается еще одна глава почти уже прочитанной книги. Впервые он ощутил тщетность своих усилий перевоспитать человечество. Почему я так надеюсь на этих хитрых скифов, на Россию, если даже сама возлюбленная моя Екатерина вместо самое себя посылает на встречу со мной некий маскулинический фантом, естественный скорее в зоне сна, чем в объективной невтонической реальности? Я теряю грань, проклятый Сорокапуст, он же Видаль Карантце, вот-вот втянет меня в кошмар, названный по секрету «вольтеровскими войнами», и уж больше нельзя надеяться на появление усатых прелестниц из фон-фигинского полка. Вообще, на что еще можно надеяться по прошествии семи десятков лет надежды? Да полно, помню ли я еще те мои, столь парижские, молодые восторги? Вдруг выплыл, как будто отпечатался между памятью и морским горизонтом, старый стих, посвященный Эмили:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу