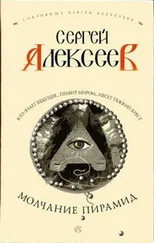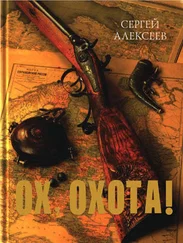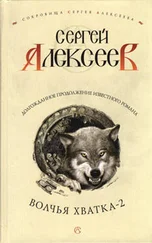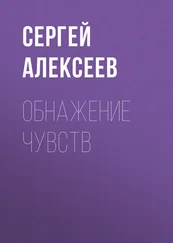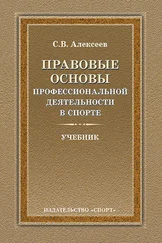Иван Трофимович так и ушел тогда ни с чем. Но едва за ним захлопнулась дверь, мой кузнец легонько ударил по голяку — по голой наковальне: сигнал к тому, чтобы я отставил молот. И другие кузнецы тоже зазвенели молотками, отправив заготовки в горны. С минуту в кузне была тишина, только с сытым шипом гудел огонь да кровь стучала в ушах.
Дядя Петя по-орлиному взгромоздился на наковальню и замер с догорающим у самых губ окурком.. Он чему-то тихо посмеивался, щурился и глядел в одну точку.
— Берись, Петро, ты, — сказал дядя Леня. — Чего молчишь?
— А-а, — отмахнулся мой кузнец и вздохнул: — Позавчерась бы взялся, лирическое настроенье было, а нынче — иди они все…
Он послал всех недалеко, но определенно и вытянул длинные ноги под гремящим, как жесть, фартуком.
— Нынче мне на все запрет. Я теперь пойду к Барновану, в секту запишусь.
— Ты не ломайся, — тихо засмеялся дядя Леня. — Берись… А кому еще? Ты же делал…
— Чего я делал? — набычился мой кузнец. — Ничего я не делал… Иди они все со своими дрожками-санками. Шабаш!
Он приступил к горну, перевернул греющуюся ось и вдруг закричал, потрясая угловатой, костлявой рукой:
— Дрожки, дрожки! Какие дрожки, когда я сам дрожу — чуть не выгнули!
Вместо «выгнать» он всегда говорил «выгнуть»: причина бог весть какого диалекта-говора, но мне еще тогда это его словечко показалось очень точным и образным, вернее, второй смысл слова. После истории с увольнением дядя Петя недели две ходил будто и в самом деле выгнутый — прямой как палка, ходульный, неуклюжий, будто переболевший каким-то заболеванием костей и теперь привыкающий к своему новому состоянию. Однако этот столбняк скоро прошел, а именно тогда, когда у нас в кузне появился сам директор. Он посадил дядю Петю рядом с собой на верстак и стал что-то говорить ему тихо, почти на ухо. Мой кузнец молчал, смурнел, шмыгал носом, сшибая капли пота, и все как-то гнулся, гнулся, пока не сложился пополам, как складник, и, глядя на свои кирзачи, заболтал ногами. С верстака он соскочил уже подвижным, ссутуленным, каким был всегда, и, не накинув фуфайки, в одной пропотевшей рубахе, пошел на мороз следом за директором.
Назад он пришел не с пустыми руками — прикатил из столярки первые, легкие санки на высоких копыльях, с разъехавшимися, будто коровьи ноги на льду, полозьями.
— Ну, Серега! — с порога закричал он, криво улыбаясь, словно сейчас только что-то украл либо провернул хитрое дело. — Лети в магазин! Только задами, понял? Задами, и чтоб тебя ни одна душа не видела!
Он вкатил санки в кузню, протягивая руки, ринулся к пышущему жаром горну и, зябко подрагивая, чакая зубами, стал греться: мороз в конце ноября заворачивал под сорок. Он тянулся к огню всем телом, но голова его сама собой выворачивалась, а взгляд бегал по белым от изморози санкам, и казалось, в его слезящихся от холода глазах уже пляшет какой-то замысловатый узор…
Лет пять назад, на охоте, я подвернул себе ногу. До больницы и до рентгена было далеко, а местный фельдшер, хорошенько намяв мне сустав, сказал, что ничего страшного нет, все на месте, однако свел к старику костоправу, когда-то известному в округе, да и там оставил на три дня. Полуслепой однорукий старик давно уже не врачевал, и не потому, что кругом открылись больницы и по первым вызовам к тяжелобольным прилетали вертолеты санрейсов. На фронте он потерял руку и одной не мог управиться с переломами и вывихами. По старой памяти к нему люди все еще приходили, просили помощи, консультации; он, чем мог, помогал, давал травы, советовал, успокаивал и жаловался приходящим сам. Костоправ пощупал мою ногу, сказал, что сустав на месте, а опухоль скоро пройдет, и начал говорить, что у него и поясница болит, и ноги ломит, и последнюю руку частенько судорогами сводит и что живет он теперь тем, что вспоминает свою жизнь и будто заново ее переживает.
— Я ведь, можно сказать, смерть свою обманул! — будто по секрету, ликуя, говорил он. — Одну жизнь тяжелую прожил, а вторую теперь легонькую живу, приятную для души. Вспоминаю и живу…
И вот этот старик рассказал мне, как его отец учил костоправскому ремеслу. Брал он материн шерстяной самовязный чулок, заталкивал туда горшок и разбивал его об угол русской печи. Сыну требовалось собрать, составить из черепков горшок, не вынимая их из чулка. На ощупь определить, какой осколок к какому подходит, разобрать их, сложить, как было, и при этом удерживать каждый черепок, чтобы собранный горшок не рассыпался, прежде чем отец взглянет на него и убедится в правильности. Но рук-то всего две! И пальцев — десять, тогда как осколков в чулке в два раза больше!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу