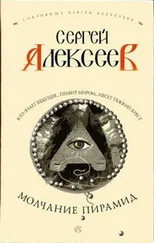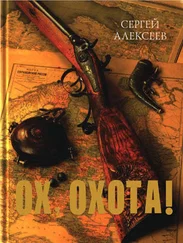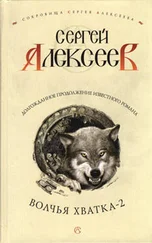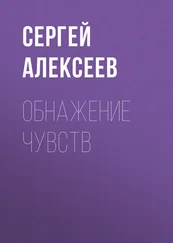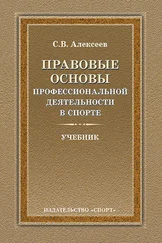— Мне и худоватые подойдут, — в тон ей, прислушиваясь к собственному говору, сказал Сергей и засмеялся: — Экие покшёнки да экие ножёнки!
Старушка подала ему тертые-перетертые, но чистые портянки, Сергей обулся, притопнул ногами:
— Теперь-от я и до Караванного дойду!
— Ой, далеко тебе шагать, — пожалела старушка. — Машины-ти редко ходят. Молоковоз-от в Тужу прошел, назад поедет, да ты останавливай, не стесняйся.
— Мне до Стремянки только, — сказал. Сергей, веселея. — Дойду!
Старушка проводила его до ворот. Сергей вышел на дорогу, оглянулся.
— Сапоги-ти не жмут ли? — крикнула ему старушка. — Ноженьки-то набьешь, коли жмут. Старику-то они маловаты были!
— Не жмут! — засмеялся он. — Я обратно пойду, дак верну сапоги!
Она помахала рукой и застыла у калитки. Сергей шел, оглядывался на пустынную дорогу и долго видел ее белеющее лицо.
Молоковоз догнал километров через пять. В кабине уже был пассажир, однако водитель остановил машину, пришлось уплотниться так, что едва захлопнули дверцу. Попутчики оказались людьми молчаливыми, грустными, и это как нельзя кстати удовлетворяло Сергея. Он трясся на ухабах вместе с двумя совершенно чужими мужиками, прижимался к ним боками, ощущал их тепло, смотрел на бесконечные красные поля с перелесками, и ему было удивительно легко и хорошо. Мимо проплывали крохотные, в пять-семь дворов деревеньки, в некоторых еще стояли ветряные мельницы — совсем целые с виду и бескрылые, но, похоже, все давно заброшенные. И эти меленки придавали деревенькам какой-то сказочный дух. Они будто не только останавливали время, а неведомым образом откручивали его назад, в прошлое; и Сергей бы не удивился, если б увидел сейчас на поле хрестоматийного мужичка с сохой, подымающего зябь. Едет себе былинный ратаюшко, понукивает лошаденку и поет песню…
Шофер остановился возле свертка и закурил, что-то ожидая.
— Что? — вздрогнув, спросил Сергей.
— Дак Стремянка, — сказал шофер. — А нам дальше…
Сергей выбрался из кабины, огляделся: поля, перелески, опять поля…
— Где же Стремянка? — крикнул он. Шофер уже тронул машину, выглядывал над опущенным стеклом дверцы.
— Во-он там была! — показал он вдоль ельников. — Кладбище-то видишь ли?.. Там и была.
— А деревня? Деревня где?!
— Дак нету! А место Стремянкой называется.
Сергей пошел вдоль ельников, по краю вспаханной зяби, вглядываясь вперед и ощущая сердцебиение. Стало жарко. Он расстегнул кожаный плащ и побежал, цепляясь полами за сучья. Дорога кончилась! Точнее, она когда-то существовала, может быть, еще весной, но сейчас была перепахана, и глыбы спрессованной красной земли еще хранили отпечатки колес. Он пробежал мимо замшелого кладбища с покосившимися крестами и очутился на берегу…
Светлая холодная река несла желтые листья; космы прибрежной осоки, словно женские волосы, полоскались и бороздили тихую воду.
А там, где было село, лежало вспаханное поле и лишь бурые пятна по красной земле, будто родинки, отмечали места, где стояли дворы.
В желаемом дорожном молчании он думал, как придет в село, как заговорит со старушкой, похожей на ту, что дала сапоги, и старушка станет гадать, кто он, чей, к кому приехал. Тогда он назовет фамилию, брови у старушки вскинутся, вытянутся бесцветные губы — конечно же знает! Ведь должен остаться какой-нибудь корешок, пусть слишком далекий, но сохранивший фамилию.
Сергей опустился на землю, там, где стоял, — на пахоту, а память вдруг вывернула слежавшийся, тяжелый ком воспоминаний, связанных со смертью матери. Ее уже не было на свете, он же, не зная об этом, весь день думал о матери и в сознании вспыхивали какие-то случайные, малозначащие эпизоды. Вот мать хлопает половики во дворе — босая, в туго повязанном платочке, вот они идут с ней по лесу и ищут корову. Мать останавливается и громко, протяжно зовет: Дочка, Дочка! Дочка-а-а!.. Эхо ей откликается, где-то козодой трещит и кукует припозднившаяся, кукушка. А вот она несет воду на коромысле, вот растапливает утром печь…
Мать уже умерла, а он до самого вечера все еще думал о ней как о живой, и только вечером получил телеграмму. Сразу вспомнил сон, приснившийся накануне. Будто он бежал по берегу реки и уронил в воду шапку. Шапка поплыла, захваченная стремниной, все дальше к середине, он же бегал взад-вперед и никак не мог достать ее. Так и уплыла шапочка за поворот…
Словно заряженный этим сном, он и думал о матери целый день, потому что в детстве так и было: он сронил шапку в воду и со слезами прибежал домой. Мать утешала его, гладила по волосам и говорила, что жалеть-то не шапку надо, а голову.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу