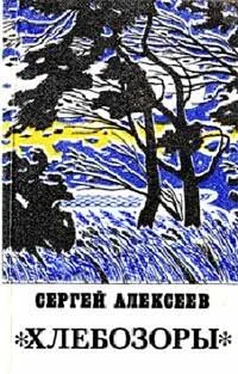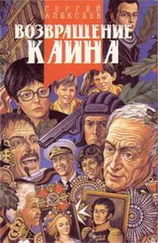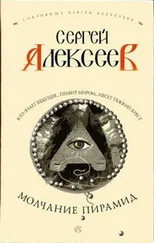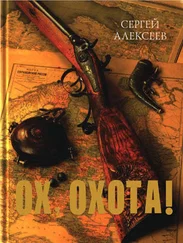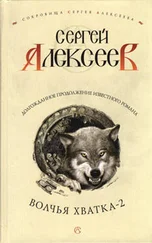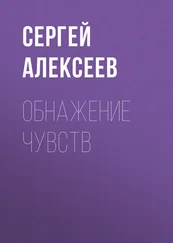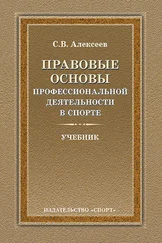Плывут по Рожохе маты, курятся дымы над будками плотогонов. Третья военная весна пошла. И сколько еще будет таких весен? «Бабы-то мне и раньше говорили, будто ты мужик интересный, обходительный. И ребятишки от тебя не болезненные, шустренькие. Посмотрю на твоего поскребышка — сердце ноет… Мне бы такого да своего! Я ж еще, Степушка, пеленки не нюхала. А они, сказывают, сла-а-аденько пахнут… Грех великий, чую же, — твоей жене завидовать. А я завидую, Степа! И ревную… — Я — молодая и старухе завидую!.. Дай, Степушка, послабление…»
— Понять хочу, что ты за человек, — вдруг признался Катков. — Как ты живешь, как осмелился на такое? Ладно бы еще, если любовь. Свихнулся от этого, закуролесил. Из-за любви-то я могу поверить. Ну с одной бы тогда! А то…
— Я их всех люблю, Андрей. Всех, — Степан глянул исподлобья. — Без любви и лесину не спилишь. У них все с любовью делается. И мне без любви тут никак нельзя. На фронте надо, чтоб ненависть была, а у нас чтоб любовь. Без нее все пропадет. Ты поживи, погляди, этим женщинам одно спасение нынче — дети и любовь. Им ведь ничего другого уже не осталось… А если у нас мораль такая, что баба хочет родить и не может — грех без мужа, то нужна ль такая мораль? В войну она не годится. В мирное время — еще ничего, а в войну мы с ней пропадем.
Катков помолчал, высматривая кого-то на улице сквозь проталину на стекле, обнял костыль.
— Не знаю, как и говорить с тобой, — вздохнул он. — Теперь понимаю Петровского. Наверное, из-за тебя он и на фронт попросился, два выговора получил… Мне теперь проситься некуда… Короче, из партии исключать тебя надо. И судить по военному времени.
— За быков?
— Ну, быка с жеребенком еще можно простить. Это я понимаю… За это из партии полетишь. А вот за распущенность судить будем.
— Суди, я статей-то не знаю, может, и есть, — согласился Степан. — Прямо сейчас с тобой и поеду, даже без милиции. Мужик ты не пугливый, вон какой иконостас на груди! — кивнул на медали. — Но поеду с таким условием: похлопочи, чтоб Топоркова убрали. А еще надо метров сорок мануфактуры и телогреек двадцать восемь штук. И пимов надо, и шапок. А то парнишки мои, стахановцы, начисто обносились, смотреть страшно. Ну и кормежку военобучу. Хлебную пайку добавить и сала, хотя бы по полфунта в неделю. Похлопочешь — поеду.
— Где я тебе возьму? — возмутился Андрей. — Все на фронт идет, там тяжелее! Еще и условия ставит…
Не договорил, боднул головой воздух, насупился.
— Тогда не поеду! — отрезал Степан. — А силком не увезешь. Я своих ребятишек на фронт таких не пошлю! Пока ты за милиционером ездишь, я еще пару быков завалю. А мясо военобучу отдам и по семьям, где допризывники есть. И Топоркова разжалую… Вот тогда и судить меня будешь! Мораль и закон нарушу, еще раз… — И вдруг подавшись к Каткову, заговорил медленно, тихо: — Пойми, Андрей, ведь не я же их нарушаю. Война нарушила. И мораль, и закон, одним махом. Мы сейчас по-другому живем, и думаем по-другому. Ты судить хочешь, а мне кажется, народ чище стал. Бывает так худо — ложись и помирай. Но бабы вон идут и поют на морозе… Ты все про мораль говоришь, за нее боишься… Да если есть в народе мораль, ее никакая война не погубит. Нарушить может, а погубить… Чем круче яр на реке, тем его подмывает сильнее и, берег валится, валится. Да только земля-то никуда не девается. Некуда ей деться. Промоет ее водой да и отложит на другой стороне. Помнишь, на Рожохе: пески каждой весной намывает чистые, белые…
И замолчал, снова вспомнив маты, плывущие по реке, скрип рулевых бревен и коростелей. Вода большая была, дурная от своей силы, и берега рушились под ее напором вместе с травой и деревьями.
— Говорить ты научился, — звякнув медалями, пошевелился Катков. — Ловкий на язык стал…
— Мне и языком приходится работать, — вздохнул Христолюбов. — Комиссаров в тылу нет. Так что самому все надо… И врать приходится. Бабам-то я все послабление сулю, обнадеживаю. Тоже вроде на какую-то мораль наступаю… А то они к ворожейкам пошли, к попам, за словом-то. Так уж лучше я им совру.
— Ладно! — прервал Катков и стал сидя надевать офицерский полушубок. — Поехали! Райкому свои условия ставь — не мне.
Отмякшее было лицо его вновь затвердело, заострились скулы под сухой кожей. Андрей выглянул в окно: закуржавевший конь, привязанный за перила конторского крыльца, давно уже подъел сено и теперь перебирал губами жесткие объедья. Христолюбов тоже подошел к окну и стал смотреть куда-то вдаль, протаивая ладонью глазок. Катков взял костыли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу