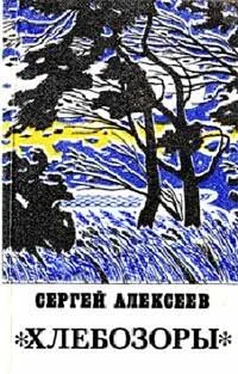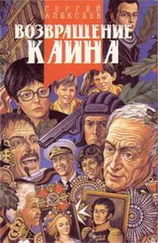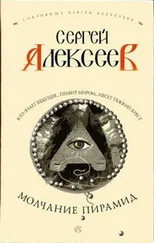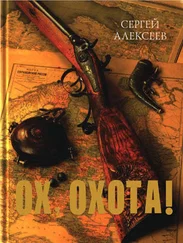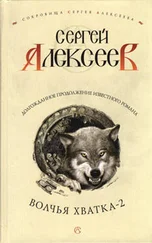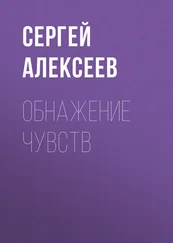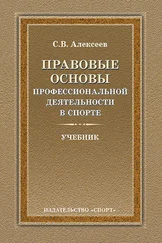— Во! Лодка! — обрадовался Колька и будто нас не заметил. — А мы, дураки, с берега лучим!
Я почувствовал неладное и предупредительно сел на нос. Однако Смолянин постучал черешком остроги по дну, зажег спичку.
— А ничего. Путевая лодчонка!
Тем временем Витька Карасев нашарил трос и стал отвязывать.
— Наша лодка! — сказал я. — Мы ее тащили! С Рожохи!
Где-то близко с шумом сорвалась с воды утка и заблажила на все озеро. В ответ степенно зашваркал селезень.
— Кыш отсюда! — Колька толкнул меня черешком и взялся за нос лодки. — Домой беги, мамка потеряла…
Приступ бессилия и гнева, недавно пережитый, вновь ударил в голову. Я вцепился в трос мертвой хваткой, уперся ногами в землю — пусть только попробуют! В этот момент с берега кубарем скатился Илька-глухарь, выпрямился перед Смоляниным, замаячил что-то руками, замычал протяжно и с дрожью.
— А ну, Колдун, дергай отсюда! — Колька пихнул его в грудь. — Пока я вас обоих в озеро не макнул.
— Вода, между прочим, холодная, — засмеялся Витька. — Илья-то в воду уже пописал!
— Не отдам! — заорал я, ввернув неловкий мат. — Ты попробуй, потащи сначала!
— Я все пробовал! — Колька рванул из рук трос — укололся. — Ну, я тебе покажу кордебалет!
Он схватил острогу наперевес и пошел на меня. Я стоял не шелохнувшись, а где-то сбоку тяжело дышал Илька-глухарь. Острога уперлась мне в грудь, сквозь рубаху я ощутил ее острые кованые зубья.
— Ну, коли! Коли, гад! — в глазах уже метались красные сполохи. — Тюремщик проклятый! Зек!
Наверное, уже рассвело, потому что я увидал Колькино лицо, враз побелевший нос с раздутыми ноздрями. Он бросил в лодку острогу и шагнул ко мне.
— Сам ты… выблядок! — незнакомым голосом просипел Колька. — Папка на фронте был, а мамка твоя по кустам шарахалась! И я про тебя знаю!
Трос сам собой выпал из рук, я попятился, уперевшись спиной в березу. А Илька вдруг гортанно захохотал. Он-то не слышал, что было мне сказано…
Тем временем Витька прыгнул в лодку. Смолянин рывком столкнул ее в воду и, отпихнувшись от берега, вскочил на нос. Наш дощаник закачался, будто перышко, поднимая легкую волну, а трос бороздил воду, распуская «усы». Мне уже было не до лодки. Обида колола грудь больнее, чем зубья остроги, и я цепенел от нее словно рыба под лучиной.
А Илька все хохотал, тараща глаза и махая руками.
Лодка совсем не текла — на дне и капли не выступило, однако вдруг на моих глазах она стала тонуть, камнем погружаясь в черную воду. Через мгновение Колька с Витькой уже барахтались в озере, подплывая к берегу.
Колдун перестал смеяться и потянул меня в гору…
Я ощущал на предплечье его руку, каждый палец, кроме мизинца. Пальцы у него были жесткие и крепкие, будто стальная проволока.
В тот момент мне было не до Илькиного колдовства. И если бабка его, умирая, вселила в него какую-то силу, то сила эта навряд ли была нечистой. Лодка могла утонуть и без чародейства — слишком уж она отяжелела, лежа в земле.
* * *
В ту осень мы так и не съездили на рыбалку. А нарубленное смолье мать пустила на растопку, и всю зиму по утрам, затапливая печь, тесала его топором в щепу. Смолье вспыхивало, едва к нему подносили спичку, и горело жарко, с треском, разжигая дрова, сложенные колодцем на полу.
И каждое утро, глядя на этот огонь, я цепенел, вспоминая стычку на Божьем, и словно рыба из черной воды, всплывала застарелая обида. Мать хлопотала у печи, а я глядел на нее и никак не мог отважиться спросить, вернее, рассказать, что случилось на озере. Язык моментально пересыхал и шелестел во рту, как суконка. Я верил, что Колька Смолянин крикнул мне тогда от злобы и бессилия, и все это неправда — не было так! Не было! Однако тут же вспоминались малопонятные упреки дяди Федора, когда они начинали ругаться с матерью, а главное — мой год рождения, записанный в метриках.
Но догорело смолье, и вместе с ним притупилась боль, притухла обида. Однако с той поры я старался не вступать в шумные споры и скоротечные потасовки, втайне от себя ожидая, что вдруг кто-нибудь снова крикнет в лицо про мою мать. Не верил, не хотел верить и все-таки будто спрашивал каждого встречного — а ты не знаешь? — ив уме непроизвольно высчитывал, кто может знать и кто нет. Весною, когда по берегам Рожохи вновь буйно зацвела черемуха, и остатки «инвалидной команды», отряхнув болезнь, в сопровождении нянек-сыновей выбрались из домов на свет божий, я уже не пошел с ними. Издали, спрятавшись в кустах, я пересчитал фронтовиков — их было всего пять: зима для инвалидов прошла сурово, умерло трое почти в один месяц. У дяди Лени Христолюбова не хватило сухих досок, и последнему из них, Ивану Русинову, достался гроб из сырого, только что из пилорамы, теса. И умер-то Иван в самую слякоть, так что положили его в залитую водой могилу, скорей-скорей соорудили полати и засыпали землей, чтобы не видеть, как затопит гроб. Люди стояли вокруг отчего-то виноватые, и никто не плакал, словно боялись добавить сырости в тот промозглый день. Впрочем, может, кто и плакал, разве что не видать было — с утра шел дождь. Дядя Федор принес малопульку и салютовал над могилой. Он глядел на баб, зарывающих могилу, и палил вверх, механически дергая затвор и мокрыми руками вставляя новый патрончик. Кто-то его одергивал, мол, хватит шуму, пускай Иван хоть в земле спокойно полежит, а дядя будто не слышал, стекленея взглядом, лихорадочно рвал затвор и давил на спуск, открывая при этом рот, будто стрелял из орудия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу