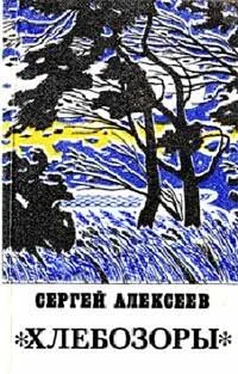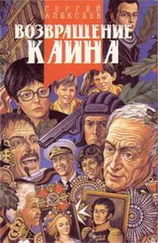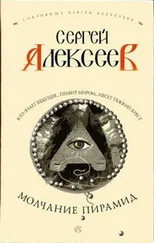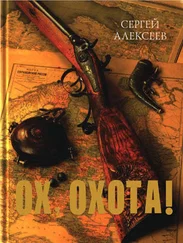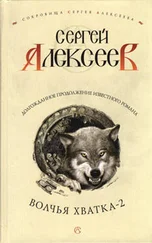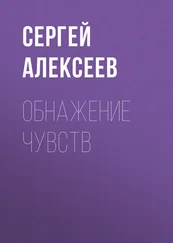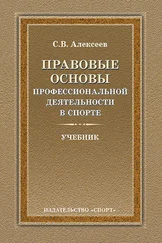Он сунул в руки скомканный резиновый шар со свистком и перемахнул через плетень.
— Ты особенно-то не расстраивайся… Я всю жизнь с плоскостопием хожу — ничего. Штука известная, подумаешь!.. Ты приходи ко мне на Божье, порыбачим, а я тебе чего-нибудь такое расскажу… Шлем-то теперь не станет, поди, под ружьем гонять? Какой толк? Только в военное время…
Мне и в самом деле уже не хотелось ходить под ружьем, лучше бы на рыбалку, за грибами подберезовиками, которых так много было на Божьем, хотя березы давно спилили. Однако я боялся спросить у дяди, что будет завтра, и загадал: если он сыграет подъем, значит, снова начнется военобуч.
Но подъем сыграли дяде Федору. Рано утром к нам подъехал милицейский «воронок», откуда выбрался худой и синий, как шинель, начальник милиции. Он разбудил дядю и сел с ним курить на крыльцо. Видно, обоим разговаривать не хотелось и они пускали синий дым, который долго курился и реял в неподвижном воздухе, пронизанный солнечными лучами. Наконец начальник милиции сказал:
— Сдавай оружие, Федор Иваныч. Хватит, навоевались.
Дядя скрючил босые ноги.
— Зацепишь кого ненароком, или пацанва стырит. Наделают делов…
— Погоди! — оживился дядя Федор. — Возьми к себе на работу?
Начальник милиции приобнял его, вздохнул:
— На свое место, что ли, Федор? Майорская-то должность одна. А ниже сам не захочешь.
— Ниже не захочу, — он подошел к мотоциклу и вытащил из коляски сиденье. — Забирай.
Между пружин возле задней стенки сиденья оказалось четыре пистолета и короткоствольный револьвер. Начальник милиции пересмотрел их, пощелкал курками, а дядя тем временем принес мешочек патронов килограмма на четыре.
— Хорошая коллекция, — сказал начальник.
— Оставь этот? — попросил дядя и поднял в руке большой и новенький пистолет. — Или возьми себе? Ты таких не видал. Английский, «кольт-автоматик». Дарю! А то в переплавку… Жалко.
— Спасибо, — начальник положил кольт в карман, остальные сунул в полевую сумку. — Будешь в райцентре — заходи.
Дядя Федор ничего не ответил и даже не встал, чтоб проводить. Когда «воронок» упылил, дядя умылся в кадке, стоящей под водосточным желобом, и босой, безременный вышел на середину улицы и подался в сторону кладбища. Шел он, покачиваясь, сутуля спину и задевая болтающимися руками «бутылки» галифе. Распущенная, вылинявшая гимнастерка делала его похожим на военнопленного, которых показывали в кино.
Вернувшаяся с дойки мать заставила сейчас же разыскать дядю Федора и на шаг от него не отходить, чтоб с собой ничего не сделал. Я нашел его на кладбище возле могилы отца. Подкрадываться к нему было хорошо, он не слышал шагов…
Впервые я увидел, как он плачет — тихо, без всхлипов, только слезы вытирает.
— Паш, ты на нее не сердись, — говорил дядя Федор. — Она ведь не знала… Тебя же убили, вот она и… А как бы ей теперь, Паш? Подумать страшно. Все из-за войны… Ты там лежи спокойно, не обижайся. Нам, думаешь, здесь легко?.. Ох, Паша, нелегко. Я из-за этой войны генералом не стал…
Ему, наверное, казалось, что он говорит шепотом…
В сорок третьем году в Великанах случился голод, которого не помнили здесь ровно двадцать лет. То был последний голод в наших краях, а может, и во всей России голодовали тогда в последний раз.
До войны Великаны и Полонянка считались колхозами, хотя и тогда уже готовили и сплавляли лес. Но уже в сорок первом сделали леспромхоз, один на две деревни. Понять теперь, кто где работал, стало невозможно. Все пахали, все зимой лес рубили, который вязали в маты, с половодьем гоняли в запань — и спешили к посевной. А командовал тогда колхозной, лесной и сплавной работой один человек — брат дяди Лени, Степан Петрович Христолюбов, по возрасту не взятый на фронт.
Хоть и работали много, но всю войну жили впроголодь, тянулись от урожая до урожая; зимой ждали весны — крапива пойдет, лебеда, пучки, саранки, а березового сока так вообще хоть запейся. Ребятня с Божьего, где готовили ружболванку, не вылезала. Когда березу свалят, раскряжуют и расколют на болванку, ребятишки уже здесь, с ножиками — болонь скоблить. Болонь — тонюсенький слой мякоти под корой, и если ее соскоблить во время сокохода, она вкуснее манной каши и слаще сахара. Потом скобленую ружболванку приемщики сразу определяли: так она высыхает молочно-белой, а скобленая чернеет. Но крепости все равно не теряет.
А летом ждали осени, вернее, кормилицу военную — картошку. Ну и хлебушка, конечно, какой от госпоставки останется.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу