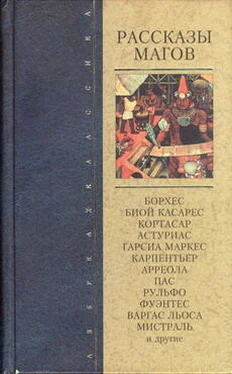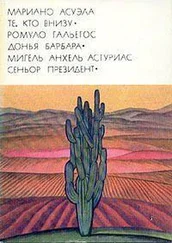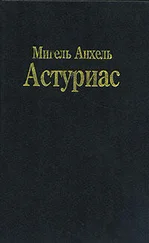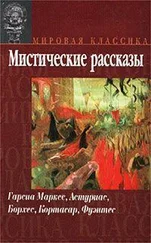Искушение деревом манило Амбьястро из его убежища, населенного каменными идолами, гигантскими фигурами из различных минералов — камни, и только камни, — его влекло к живому растительному миру с запахами леса, где бродил он ночью, словно лунатик, по звездным тропинкам, где ласкал его дождь ветвей; а днем, отрешенный, в полусне, будто в бреду он отдавался страстному влечению и был почти готов оставить камень, забыть о своем обещании не прикасаться ни к дереву, ни к глине, ни к любому другому мягкому материалу, пока длится его изгнание: готов был приумножать свои создания, вырезая их из влекуще-алой древесины, из огненно-дымчатой, из дерева с желтой плотью; все они, в отличие от камня, твердого и коварного, покорялись его волшебству, не оказывая сопротивления, — трепещущие, податливые, радостные. Какое-то подсознательное чувство заставляло его предпочесть эти породы белому дереву, соперничающему с изысканным мрамором, черному дереву, сопернику гагата [4], красному дереву, сравнимому разве что с гранатом винного цвета.
Заснуть невозможно. Мир богов, воинов, жрецов, изваянных Амбьястро с ювелирной точностью из твердого камня, превращал его пещеру в гробницу мумии. Правда, скульптуры из дерева недолговечны и не имеют будущего… Он кусал губы… Да и работал он не только для удовольствия. Его творения заключали в себе мысль, хранили следы потухших комет. Положили начало науке о драгоценных камнях. Амбьястро поднес ко рту свою курительную трубку, украшенную обезьянами, которые играли с дымом, образующим завесу между ним и его мыслями… Хотя все, наверное, так и останется погребенным здесь навеки, если пещера обрушится. Да, дерево, дерево: ваять деревянных богов, богов из сейб [5]— фигуры, имеющие корни, не то что его идолы из гранита или мрамора, — скульптуры с огромными руками-ветвями, что покроются цветами, загадочными, словно иероглифы.
Амбьястро не понимал, что случилось с его глазами. Они вспыхнули. Он слеп. Слеп. Они вспыхнули множеством огней, когда он ударился об острие кремня, ища камни твердой породы у скалы с хрустальной жилой. Его руки, кисти рук, грудь омыл мелкий колющий дождь. Он поднес ладони к лицу, исцарапанному острыми иглами, чтобы прикоснуться к глазам. Зрение вернулось к нему. Это было лишь минутное ослепление, искрящаяся вспышка, сверкающее извержение скалы. Амбьястро забыл о своих сумрачных камнях, об искушении благоухающих деревьев. У него остались лишь его руки, бедные потухшие звезды — далеко теперь море яшмы и обсидиановая ночь, — и бриллиантовый свет полудня, сияющий и потухший, обжигающий и холодный, обнаженный и таинственный, изменчивый и спокойный.
Он будет ваять из горного хрусталя, но как переместить эту сверкающую глыбу к его пещере? Это невозможно. Не обремененный ничем человек поселился бы здесь, рядом со скалой. Но что делать с потомством: каменными скульптурами, идолами, богами-гигантами? Он погрузился в задумчивость. Нет, нет. Не думать об этом. Теперь он отвергал все, что напоминало ему о существовании мрака.
Там, рядом с хрустальной скалой, он соорудил хижину, взял с собой лишь одного бога, защитника тех, кто сам себя изнуряет, привез воды в большом глиняном кувшине и начал точить свои кремни о выступ скалы, чтобы придать им остроту лезвия навахи [6]. Начало новой жизни. Свет. Воздух. Хижина, открытая солнечным лучам, а ночью сиянию звезд.
Дни и ночи бесконечной работы. Без отдыха. Почти без сна. На грани изнеможения. Израненные руки, лицо в ссадинах, которые, не успев зажить, снова кровоточили от новых порезов; в порванной одежде, почти ослепший из-за осколков и мельчайшей кварцевой пыли, Амбьястро лишь с мольбой взывал к воде — вода, чтобы пить, вода, чтобы обмыть осколок хрустального чистого света, который постепенно приобретал очертания лица.
Заря заставала его без сна, в мучительном отчаянии ожидающим рассвета, и не раз она заставала Амбьястро с метлой в руках — но не сор выметал он, а разгонял предрассветную мглу. Он не приветствовал больше сверкающую драгоценными камнями утреннюю звезду — и не было для него лучше приветствия, чем ударять по скале чистейшего кварца, смотреть, как взлетали в воздух яркие брызги света; едва рассветало, Амбьястро снова принимался за работу; дыхание его прерывалось, пересыхало во рту; словно обезумев, весь в поту, он сражался с острыми осколками, они ранили его слезящиеся глаза, со слепящей пылью, с волосами, ниспадавшими на кровоточащее лицо, они выводили его из себя — ему приходилось тратить время, чтобы каждый раз отбрасывать их ладонью. То и дело Амбьястро яростно точил свои инструменты, инструменты уже не скульптора, а ювелира.
Читать дальше