День, другой, третий, иногда и неделю налаживалась и входила в берега разлаженная, выбитая из колеи жизнь в доме тетки Авдотьи. Потихоньку, помаленьку девки, их дети, затем и сама тетка Авдотья начинали выходить за ворота, являлись селу и людям.
— Сошла луна с ущербу, — понарошке крестилась бабушка. — Чё не заходишь-то?
Тетка Авдотья, пробурчав: «Мы бедны, вы богаты», — отвернувшись, проходила мимо. Одевалась она в эту пору во все драное, старое, заношенное, чтоб треснутые пятки из обуток было видно, чтоб все понимали, какая она несчастная, отверженная, всеми брошенная.
Но вот в прибранном, угоенном доме, во время рукоделия или при починке изорванной одежды, теребления ли пера, а то и у прялки, тетка Авдотья тоненько, без слов принималась чего-то в забывчивости напевать, потом и на слова переходила. Ну, дети уж тут как тут, не отстанут от родимой матушки, радостно подхватят, поведут — заслушаешься. И дойдет у них дело до самой жалостной, самой близкой их сердцу песни про коварную и изменчивую любовь. Хотя и есть в песне предупреждение: «Не любите моряка, моряки омманут», — все равно не устоять слабому девичьему сердцу под напором страстей, и дело заканчивается известно чем: «Месяц светит за окном, дождь идет уныло, а в руках она несет матросенка-сына».
И как разольются по селу, отзвенят отчаянные голоса тетки Авдотьиных девок, долго еще смотрит в окно, в пространствие слепыми от слез глазами сама тетка Авдотья. И чего она там видит, об чем думает и страдает? Спохватится, встряхнется и с протяжным вздохом молвит тетка Авдотья, ловя рукой иголку или веретено:
— Ох, девки, девки! Блядишшы вы блядишшы, я пропаду, и вы пропадете.
Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.
Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.
Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку — завелась она надолго, — дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему клонится дело, я ринулся в избу:
— Баб, а баб! Дедушка уезжает!..
— И понеси лешак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.
Бунт деда дошел до такого накала, что он и не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.
— И не запирай! И не запирай! — кричала бабушка с крыльца. — И я не запру! И я не запру! Стыдобушки-то! Сраму-то! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..
Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племенного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани.
Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!
— Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. — Съедутся детки родимые, где тятя — спросят. Внуки, деточки малые — где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет — и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а…
Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
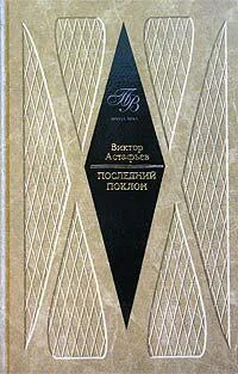

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

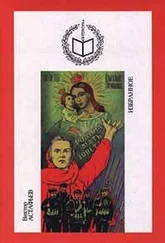



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



