В огороде своем я насадил лес и дикие лесные цветы, пытаясь, как все современные люди, приладить природу к себе. Ныне ребятишки уже не пропадают в лесу, не копают саранки, не жуют медуницу, петушки, пучку, черемшу, не скоблят сосновый сок. Как-то, идя из лесу, нес я в руке подснежники, и катающиеся на велосипедах с подвешенными на шею транзисторами подростки, с фигурами уже взрослых мужиков, удивленно воскликнули: «Ой, уже весна!» А когда-то в деревне о весне, о первых цветах жители села узнавали от нас, ребятишек, и о ледоходе, и о первом пароходе, и об ягодах первых и грибах, — счастлив бывал тот, кто первым находил не только яичко на сеновале, но и в первую зрелую земляничку, первый масленок.
Неохотно что-то приживаются дикие лесные цветы в огороде.
Садил, садил орхидеи — венерины башмачки, — прижились они в одном месте, возле стены избушки, растут вяло, цветут уныло, стародубы под березой в тени забора прижились. Нынче сыро и холодно весной было — цвели таежные цветы густо, сочно. Я склонился над пышной зеленью стародубов, надеясь уловить тот таинственный запах дремучей тайги, который в детстве вбивал меня в пугливое чувство, что бывает от соприкосновения с тайной. От цветка все еще веяло древностью. Из древности той вышли все мы, ведь получились мы все из того, что было до нас. И не весточка ли из прошлого встревожила сердце тем горьким вздохом древности? Не в онемелом ли цветке озарилось тысячелетие, не ему ли дано нежным рупором сообщиться с нами, поведать о вечности? Не остановившийся ли звук прошлой, неведомой нам и все же близкой сердцу жизни тревожит нас, донося щемящую тоску о чем-то безвозвратно утраченном нашей ленивой, полусонной памятью?
Музыка и цветы — это оттуда, из недостижимых далей, из окаменелых напластований времени, только им оказалось доступно пробиться к нам. И мы плачем, слушая музыку, умиляемся, глядя на тщеты, плачем о самих себе, свято задуманных природой и утраченных нами же, горюем о существе, самого себя заморочившем, обобравшем, изголодавшемся и норовящем на четвереньках, с лаем, рычанием, мыком вернуться в каменные пещеры, чтобы через миллионы и миллионы лет возвратиться оттуда на свет, обрести разум и снова умилиться цветку, плакать от той музыки, которую слушал кто-то до нас…
В лесу, в первой Россохе, где росли раньше нам, детям, доступные, самые близкие ягоды брусники и черники, черничник исчез вовсе, бруснику ровно кто-то обкусил, и она каждое лето пытается ожить, выбрасывая на глиста похожий бледный побег со щепоточкой вялых тычек, похожих на чахоточные палочки.
Но не кончился совсем пока мир-то этот, не кончился. Для меня он и по сию пору делится на два мира — на маленький и на большой, устрашающе манящий в запределы, кои видел я недавно и содрогнулся…
Подлетая к Нью-Йорку, самолет лег на крыло, и вместо неба стеной стала кипящая, распластанная магма, которую наискось, вдоль, поперек прошивали ручейки огней, беспрерывно текущие куда-то в бесконечность. Жуткая, цепенящая красота огромного вечернего города. Будто фантастический сон наяву.
Но мне родней и ближе тот малый, привычный мир. Я даже речки люблю малые, особенно нашу фокинскую. По ней можно бродить, брать воду на чай, умываться, плескаться, ловить пищуженца под камнем, зреть, как сбиваются в стайку пестрые харюзки — настороженно пошевеливая нарядными лепестками хвостов и плавников, вдруг рыбки россыпью бросаются вверх по течению и где-то исчезают. Если совсем мелко в перекате, брызги изовьют, серебром кусты наклоненные осыплют, брюхатого жука в воду сшибут, и он, шевеля лапами, плывет, кружится, короткий всплеск, и его не стало — леночек или харюз покрупней поживился. Куличок бегает по камешкам, засунув длинный клюв в глинистую морщинку, подернутую голубыми мошками незабудок, достал еду птенцам; шустрая трясогузка из коряжек и корней выклевывает тлю и личинок, приветливо всем кивая хвостом. Булькнула ягода смородины в воду, пикнул бурундучок, мышка травой прошуршала, и чутко дрогнул крылом заложивший круг над речкой зоркий ястреб.
Этот мир можно потрогать ладошкой, к нему хочется прильнуть, быть в нем, он казался в детстве бесконечным.
И как прежде, на той еще не вспоротой бульдозером речке, возле не раздавленных гусеницами ключей трудятся двое — он и она. Мальчик и девочка. «Мальчики играют в легкой мгле, сотни тысяч лет они играют: умирали царства на земле, детство никогда не умирает». Он складывает дом, она месит глину, носит в ладошках воду, и, когда вода проливается меж пальцев, он ворчит на нее, и она снова и снова спешит к речке, терпеливо доставляя воду на замес. Построив дом, он, хозяин, идет за дровами, может, и рыбу добывать, она стряпает пироги из глины, укладывает под лопушок сделанных из сучков деточек — спать. Накрыли хозяева стол, ягодок черемухи и смородины на него насыпали, хозяйка желтенький цветочек-недотрогу в серединку поставила — огонек в доме затеплила, ромашек, называемых лебяжья шейка, на постель детей набросала. Спешите, гости и все люди добрые, на огонек во вновь построенный дом — вам тут всегда рады.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
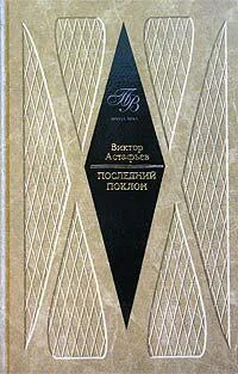

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

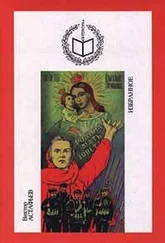



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



