Потом уж, сквозь тяжкую муть и смертельный сон, доносило до меня слова мачехи, научившейся говорить с самой собой: «Сахар-то, сахар-то обернул, бечевкой обвязал! Вот откуда чё берется? Пустобрехом рожон…». И про хлеб что-то успокоительное напевает; подмокли булки-то, да мы их подсушим, которые совсем раскисли, перемесим, перестряпаем па лепешки… «Не-э пропадем, ребята, не пропаде-ом!..».
Явился папа, больной, трясущийся, со спекшимся черным ртом, и сразу в наступление, почему я уплыл, бросив его одинокого на чужом берегу? Почему не купил ему «визилину» и табаку? Денежки вот из кармана выгрести догадался, жульман городской, но о больном человеке не подумал! И в наказание приказал мне идти на соседний дровоучасток к братанам Губиным за ружьем.
Не пропил, а променял он ружье — старую, заслуженную двустволку — на одноствольный дробовик, поскольку нужны были деньги на продукты и вазелин, и ему дали придачу братья Губины, да еще какую придачу! Мозга у него шевелится, масла достаточно, чтобы обмозговать выгодно обменную операцию. Выходило, папа на полойском берегу не пил, не гулеванил, за копейку бился, соображал, как нас, дармоедов, дальше и лучше содержать. Голова его от забот поседела, мы же не только не ценим его радений, но и ведем себя черт знает как — недостойно, вольно, во вред ему и не на пользу общественному делу.
Ветер все еще не унялся. По Енисею шла уверенная волна, комаров с берега сдуло, загнало в прибрежную шарагу. Светлой ночью, под незакатным солнцем босиком шлепал я по мягкому приплеску, и вольно мне было. Никуда я не торопился, никого и ничего не боялся, пел песни, ел ягоды смородины, пил воду из ключей, пулял камнями в чаек, кружащихся надо мной, и не знал еще, что поход тот останется во мне на всю жизнь таким ярким озарением. Я озорно торжествовал, когда от берега вплавь бросилась врасплох застигнутая утка с выводком, выедавшим на отмели мулявку и всякие корешки, выброшенные волной. Утят, будто пробочки, подбрасывало на волне. Я хлопал в ладоши, пугал пташек, утка, изображая из себя предсмертно раненную, больную птаху, бултыхалась на воде, кружилась на прибрежном урезе, где ходила мутная вода, отманивая меня от выводка и одновременно командуя, чтоб детишки не лезли в круто бьющую волну. Поняв, что весь «тиятр» этот разгадан, утка, сердито крякая, летала над моей головой, прогоняла меня вон, обрызгала водой с крыльев и даже целилась обкакать, но я увернулся; глухарь, тоже подбирающий на берегу корм и камешки, уже сменивший перо, но не окрепший крылом, под шум волны не услышал моих шагов и, застигнутый врасплох, по-мужицки пьяно почесал от меня в чащобу, и я чуть было его не настиг; сидящие на чисто выдугом песчаном осередке гуси перестали кормиться, тянули шеи вверх и, словно на собрании или в кино, вдруг радостно загорготели обо мне — он без ружья, он же так, для испугу глаз щурит и палкой целит. Одного нашего брата угробил зазря, отец все равно потом пропил добычу, теперь вот и ружье пропил, и бояться нам стало вовсе нечего и незачем.
Гагару, вылетевшую на Енисей проветриться, надо мной забазарившую и плюхнувшуюся на мелководье, пугал я, бросал в нее камешки. Способная занырнуть при выстреле от дроби, гагара не улетела. Бесстрашно играла со мною, поныривала, мелькая юрким задом, и я говорил гагаре: возьму вот у братьев Губиных дробовик да пальну, узнаешь тогда, как баловаться.
В одном месте в логовину налило штормом воды, набило туда рыбешки, и над гибельно обсыхающей лужей густо, будто бабочки боярышницы, клубились чайки, трепетали, суетились, дрались, играли и жрали, жрали. Весь уже песок обгадили, но не давали прожоры приблизиться к корму воронам, возмущенно орущим с вершин леса, по которым они расселись и, глядя сверху, страдали, что ничего им не останется от дармовой трапезы. Я снес несколько пригоршней рыбешек в Енисей. Да разве спасешь тут всех, вычерпнешь руками гибельный водоем?
Братья Губины шибко удивились моему явлению: никакого ружья они папе не обещали, наоборот, он им остался должен, поскольку спьяну положил цену за свое ружье ничтожную. Так уж и быть, долг они прощают. Однако ж поговорят с моим отцом при встрече — сделан был договор, при народе ударено по рукам, и нечего этому артисту клепать на них напрасно. Сердобольные бабы братанов Губиных покормили меня, дали поспать в пристройке.
Папа шибко гневался на меня и на братьев Губиных, мачеха гневалась на папу. Трепло несусветное, говорила она, мало что склад на произвол судьбы бросил, парнишку чуть не утопил, так еще его же и за пропитым ружьем послал и теперь вот «тиятр», в натури, разыгрывает. Папа упорно стоял на своем: он, увидите, еще разберется с этими братанами Губиными и даже которому-то из них выбьет глаз. В натури.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
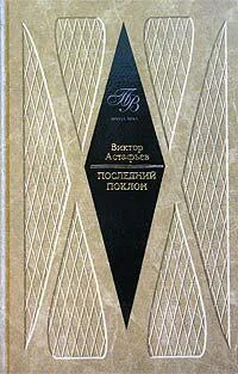

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

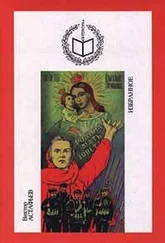



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



