О том, что я у Зыряновых долго не нажил бы, бабушка умолчала, а о том, что родитель мой, дорогой папуля, «из прынцыпу» не отдал бы меня «в люди», помалкивал я.
Время ушло-укатилось. Детство мое осталось в далеком Заполярье. Дитя, по выражению деда Павла, «не рожено, не прошено, папой с мамой брошено», тоже куда-то девалось, точнее — отдалилось от меня.
Чужой себе и всем, подросток или юноша вступал во взрослую трудовую жизнь военной поры. Внешне все еще зубоскал и посказитель, внутри — насторожившийся, в себя упрятавшийся бывший беспризорник и мечтательный романтик, возникший от пестрого чтения пестрых книг, и грубый, ныркий фэзэошник, добывающий ловкостью, потом и смекалкой пропитание, все время ждущий подвоха, суровой нотации, а то и кары от взрослых людей.
И диво ли — я ведь кровный сын своего народа. Всю историю держат и держат русский люд в постоянной вине, а напряжении, и хлеб, своим хребтом добытый, ест он как чужой, из милости ему поданный. Я к тому же ел хлеб самый горький, сиротский, едят его всегда с оглядкой: так ли ешь? не много ли? со своего ли края ложкой черпаешь? Беспризорничество — вот свобода и свободный хлеб, и к чему во все века устремлены ребятишки, бегут от сытого домашнего стола, из сиротских приютов, от богатых благодетелей и ласковых вельмож. Но беспризорничество и вечный укор благодетелям — ведь не сам по себе возник сирота, они же, благодетели, и осиротили его. Осиротили и давай окружать вниманием, лаской, но так и не могуг избыть своей всевечной вины перед изгоем — сиротой. Никого так жестоко не бьют, не проклинают, как беспризорника, эту колючую соринку в глазу «невинного» человеческого общества. В приют, в тюрьму, в исправительную колонию, под розги, под ножи, под тяжело отлитые свинцовые пули соринку ту, чтоб не портился благочинный пейзаж, не застила она светлую зарю будущей безгрешной жизни.
Заперли бродяжку в казенном доме, тут-то уж все равны, все со своей долей-недолей, все в рубахах и штанах одинаковых, да рубахи те, штаны те и хлеб тот — казенные, и благодетели, их раздающие, тоже люди казенные, ни ума, ни сердца не хватает им проникнуться состраданием к ребенку, зато самоупоения собственным благородством, самолюбования добротой своей так много, что облагодетельствованный беспризорник начинает люто сопротивляться сподручными ему средствами сей тягостной доброте. Из чистых постелей, из теплых комнат, от умных слов и книжек, от ласковых дяденек и тетенек, долго учившихся в школах и институтах любви к обездоленному ребенку, нарезает он на пристани, вокзалы, спит под мостами, в кочегарках, в ямах, в бочках, ездит под вагонами в «собачниках» иль к железной раме ремешком привязавшись, головой к гремящему колесу, дерется беспощадно с городскими приличными мальчиками, сводит в могилы умных учителей и наставников-моралистов, которые шли трудиться в детдом, веруя в ответную благодарную, даже восторженную любовь сирот, но нередко получая в ответ ненависть, нож под ребро или кирпич в разумную голову.
Юность — все же очень хороший возраст. Беспечный. Добрался до нее — живи, радуйся дню сегодняшнему, и пока заказано тебе думать о дне завтрашнем, — не думай, не надсаживайся, а что там у тебя в середке, какой груз, какая надсада — никому не видно, никому не слышно…
Бело и тихо кругом. Парят полыньи и прораны по Енисею, снежок еще тонок и лед на заберегах звонок, ничто еще не угнетено морозами, не скопано до хрупкой ломкости. Леса по горам темны, в шубе их нагрето — стоят, не ворохнутся, боясь вытряхнугь последнее тепло, — и добрые, тихие воспоминания о прошлом лете незримо и неслышно реют над ними.
Ни войны тебе, ни тревоги. Тишина. Чистый снег. Таежный простор. Топаю я по левому, гористому берегу Енисея к Зыряновым на Манский мыс и ничего не боюсь. Река стала, успокоилась, но еще дымятся полыньи и дышат окна, по льду не проложена еще зимняя дорога в город. Однако тропка из Овсянки на известковый завод уже протопана — это оторви-головы, гробовозы, наладили через реку первопуток, ходят с шестами под мышкой, щупают меж торосов и где прыгают через щели и дыры, где боязливо семенят, где бегом рвут, где и ползком. Житье возле реки, да еще если она в скалах, рискованное.
Я посидел возле Караульного быка, под навесом которого дымилась драным лоскутом полынья, черная в глуби и с неуверенной голубой рябью поверху. Сосульки с камней свисают — билась-колотилась об эти камни река, не желая покориться, брызгалась, ломала хрупкий лед, выплескивалась на отвесы камней и слой на слой стелила воду, и вода хрустела битым стеклом, стеклышко по стеклышку, звенышко по звенышку со звоном катилась вниз, обратно в реку, и все теснее становилось реке, гуще и покорней делалась в ней вода, усмирялось ее буйство, замирало течение, загоняло его под лед, спекало, запечатывало. Какая долгая, какая упорная и вечная борьба!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
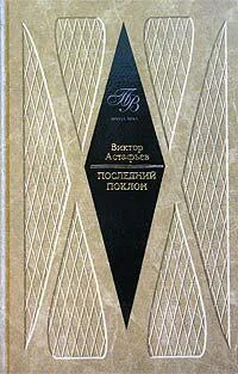

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

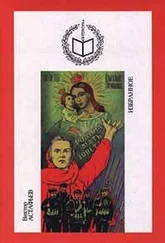



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



