Бабушка с допросом:
— Леду нажрался?
— Сахсем немного.
— Чего сахсем? — наклоняется ко мне бабушка и, чтоб лучше слышать, сдвигает платок с уха.
— Са-ахсем м-мале-енько. — Бабушка не понимает, глядит на меня какое-то время остолбенело, затем осторожно прикладывает руку тыльной стороной к моему лбу и со стоном вскрикивает:
— Да тошно мне, тошнехонько! Он опять лед жрал! Са-ахсем маленько! Вот тебе сахсем маленько! Вот тебе сахсем маленько! — Бабушка лупит меня куда попало и в ту же пору готовит компресс с горячей солью иль золой, греет молоко, высказываясь, что все-таки я сведу ее в могилу и сам туда же отправлюсь. И снова, в который уж раз ее осеняет: это левонтьевские орлы подбили меня сосать лед, они да мушковские каторжанцы чему угодно научат. — Имя чё? — гремит бабушка. — У их глотки лужёныя, брюхи на точиле верченые, нутренность вся к худой пишше приучена! А этот соколик! Он же на ветер глянет, и у ево нутро вянет. Он же порченый, мамой неженай, дедом балованай, он же слова не понимат! — Хлобысь со всего маху болезного. Я добавляю голоса. Хлобысь еще, но уж помягче, посдержанней. Я к голосу стон прибавляю и умирающе толкую бабушке, что я хворый и бить меня не по-божески. Бабушка еще разок мне влепила, за пререканье.
— Де-э-э-эда-а! Де-э-э-эда-а-а!
— Нету твоего деда, нету. Уташшыли его куда-то лешаки. Забью я тебя, забью и сама сдохну. Горло-то компресом грет? — Я киваю головой. — Хорошо грет? — И опять руку на мой лоб, и в панику. — Горит! Весь горит! Ты чё, аспид, думаш? Ты чё, варнак, позволяш? Мати Божья! Царица Небесная! Заступница ты наша, Всемилостивейшая, помоги этому комунисту! Он боле не будет. Не будешь?
— Сахсем.
— Чё сахсем?
— Сахсем не буду, — шепчу я горячим, слипшимся горлом.
— Громче говори! Сахсем, сахсем!.. Да крестись и хоть шепотом, повторяй за мной: «…неразумие, нерадение и вся скверна, лукавая и хульная, помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен».
Не нравится мне все это, особенно насчет страстей, но я повторяю и повторяю следом за бабушкой молитву. Охота мне поскорее выздороветь, и об одном я только прошу бабушку, чтоб не ляпнула где-нибудь она, как я творил молитву — меня ж ребята засмеют и в школу не запишут.
— И пушшай не записывают! — машет рукой бабушка. — Ты и так у нас эвон какой грамотнай да разумнай. То кринку потеряш, то леду нажрешься. А от Бога морду не вороти! Он токо и зашшытник тебе. Бабушка да Он, боле тебя, супостата такова, никто не поддержит на этом свете.
* * * *
Ну вот, три дня из дому не выпускали, и за это время мир совсем переменился. Прошли первые дожди, промыло траву, прах весь зимний и плесень с земли снесло. Ярче все сделалось. праздничней. На реке тоже большие перемены. Коренная вода поднимается, рушит горы льда, смывает их с берегов. С усталым исходным шорохом сыплются, звенят, сползают в воду никому не нужные, старчески усталые льдины, плывут, разваливаясь на ходу.
Первые отчаюги-рыбаки лезут с удочками и животниками-закидушками в прораны льда. Первое стадо выгнали за село, на жидкую еще и низкую траву — освежиться, выветрить с кожи отмершую шерсть. Распределились скворцы по новым квартирам, дружно налетают на шакалящих по скворечникам ворон. Долго и высоко гонят сокола стаей подальше от села, за реку, в скалы, деревенские дружные пташки. Утихают малые, недолговечные ручейки, но шибче ярятся, несутся с гор наши речки-работницы — там, в тайге, в белогорье самое половодье. Вода в речках все еще срыжа, но преющими снегами высветляет их, вживляет светлые струи в крутую воду, и на снеговицу, на бодрящий ее холод идет упрямая рыба — хариус, ленок. Ксенофонт-бобыль, подлечившись, встав на ноги, ушел по Большой Слизневке с удочкой. Думали, пропал, но он явился в клещах, исцарапанный, возле костров обожженный, только глаза одни из бороды сверкают. Рыбу из ведра на пол наших сенок высыпал.
— Ну, Катерина, весна-а-а-а! Ну, воды! Ну, птицы! А цвету, цвету! Горы кипят!
— Перед погибелью, не иначе.
— Да ну тебя! Все клюкушествуешь, как Витька говорит.
— Ты хоть его в тайгу не смани. Он и так тут чуть не сдох.
— Закалятца!
— И я с им закаляюсь. Ишшо пойдеш бродяжить?
— А как же? Ради чего и жить?
— Стародубу мне нарви. В Слизневке стародуб лохматый, церквей пахнет.
— Ладно. А ты мне хлеба испеки.
— Да завела уж квашонку. Куда тебя, окаянного, деваш?
Ксенофонт-бобыль покашливает, посмеивается и кричит со двора:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
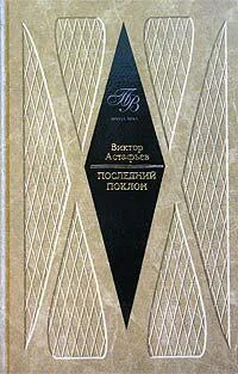

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

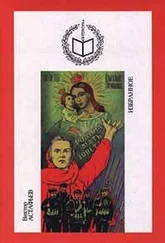



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



