Ожидание ледохода всегда происходило в пору светлого дня, совпадало с большими святыми праздниками. Первые лохматые подснежники выводками высовывались по вытаявшим буграм и увалам; трава, только-только возникшая из ничего, полнилась зеленью; полянки для игр в лапту и в бабки подсыхали, не кололись, ступать на мягкую траву голым ногам было радостно. Хватившие хмельной воды из хмельных ручьев, плясали по крышам домов и амбаров, качались на скворечниках по всем дворам скворцы. Коты, успевшие испластать друг друга, врастяжку валялись на солнце, просыпаясь только для того, чтобы прицелиться глазом на воробьев, толкующих средь куриц, посмотреть на веселящегося скворца, но сдвинуться с места, выслеживать, имать птаху не было сил и желания — отгуляли коты, дожили до блаженной теплой поры, пользуются заслуженным отдыхом.
А солнце, доброе, еще не одуревшее от жаркой работы — наш деревенский работник и заботник ярило, ниспосланный небесами для согрева жизни, жило и работало на небесах со все крепнущей радостной силой. Когда-то успело оно сделаться горячим, высоким, помогало весне распеленать землю, будто младенца, заспавшегося в мокрых белых пеленках. Грело солнце не шибко еще жарко, не шибко пробористо, но ополдень, в зените уже ласково слепило и припекало.
Однако ж за зиму и солнце поослабело от безделья, жар и кипень в середку его ушли, будто в пшеничном каравае запеклись и коркой подернулись. Закатится ввечеру солнце в Манский распадок, под соломенный перевал, и никак оттуда взняться не может. И тужится, и краснеет, аж пламенем возьмется, но перевал одолеть не может, и от напряжения, от пламени, внутри клокочущего, вдруг лопнет яркий ободок ярила, и выльется оно в изложницу реки кипящим металлом, затопит лед на Мане, Манскую гриву запалит и, широко, ярко лиясь с гор, захлестнет огненным валом Овсянку, улочки ее и переулки, дома и всякие строения. Все горит бездымно и беззвучно, пламень валит дальше, шире, вон уж и над Слизневским утесом что-то засияло, там и город недалече. А ну как город загорится, во пожар так пожар будет!
Но с обеих сторон Енисея темнело небо, узился свет, сжимало простор, и пламя само по себе унималось, остывало, однако до самой ночи, до позднего часа где-нибудь в горах, на недоступных перевалах нет-нет еще вспыхивало что-то на краткий миг, искрило, тревожило онемелую тайгу и вышнюю светь.
Как, когда, каким днем, какой неделей солнце оказывалось за Маной и даже за Енисеем — никогда я увидеть и упомнить не мог. Были у ярила нашего, видать, обходные пути в небесных просторах, и хотя ходило оно по строго заданному курсу, по кругу дня, все ж и вольности себе позволяло. Взяло вон и засияло над Бирюсинскими перевалами, посияло, поглазело и опустилось за горы, в горячее гнездо, чтоб за ночь не остудиться.
Утром вставало оно из-за гор сразу жаркое, накаленное до того, что вокруг раскаленного шара поплясывало пламя, шевелилась и тлела рыжая шерстка, которой устелено было дно огненного гнезда.
Однажды так вот встало над утесами солнце, чтобы нести дневную службу, проморгалось и видит: в ноздре реки серой, сохлой шушулиной торчит сооружение, на горах город стоит. Нахмурилось ярило: опять эти людишки чего-то натворили! Опять земную твердь потревожили, лесную благодать изранили и обожгли. Это когда же они уймутся, когда по разуму, природой данному, жить и творить станут? Но вспомнило, видать, солнце, что ему положено только работать. Это люди вон, исчадья Божьи, нагрубят природе, изобьют тайгу, рванут горы, превратят светлую реку в грязную лужу и давай спорить: хорошо сделали или плохо? Под шум, гвалт и ор еще какую-нибудь пакость сотворят. Землю, родную планету свою, до инвалидного состояния довели и доказывают друг другу, что все это во благо человеку, все для счастия его.
И солнце грело городок в горах, старые и новые города грело, деревни и поселки, даже грязную челюсть, сунутую в пасть реки с примерзшей к ней белой лужей грело, пташек и таракашек грело, всюду оно поспевало и ответный шум, песни, таежный бодрый гул слышало и сияло от удовольствия. Какая хорошая, какая необходимая, какая долгожданная работа!
Сияй, солнышко! Радуй первосветом взор младенца и отразись последнею искрой в угасающем зрачке живого существа, чтоб унес он с собою отблеск света твоего, как надежду на нескончаемость земной жизни.
* * * *
На Енисее рыжей и заметней сделалась дорога. Занесенные снегом торосы обтаяли, стеклянно сверкают на солнце. Под левым берегом, у подножия скал, загустела дымка, ополдень заплясало марево над вытаявшей сыпью камешников. Речки наши деревенские — Большая и Малая Слизневки, да Фокинская речка — долбили-долбили, мыли-мыли лед и вырвались наружу, катятся, урчат, пену и мусор за шиверками кружат, вербы, черемухи, тальники в потоки роняют. И до самого устья, до Енисея, даже в забереге толкаются речки, путь свой торят к большой воде. Версту, где и две обозначается загогулистый провал на льду в глубь хмурых вод Енисея. И малые, к лету высыхающие потоки и ручьи мохнатой гусеницей ползут по белу полю, и, когда прососут лед и провалятся в Енисей, на льду еще долго по ходу реки, в полуночную сторону отогнутым желтым лепестком светится загоревшаяся и тут же угасшая жизнь скоротечного ручья…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
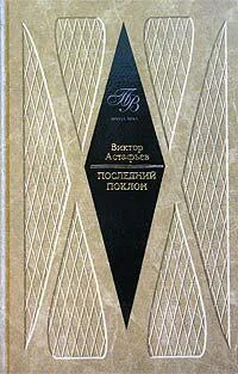

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

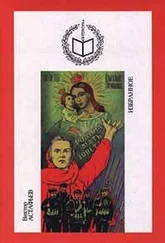



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



