Я потрепал гриву одной-другой лошади, погладил плоские, вышерканные хомутом, шеи, постирался в стойлах, выпугнул оттуда стайку воробьев — ночью они хоронились в конюшне от холода, — нагрузил овса в карман, выпоротый из старого полушубка и приспособленный мною под полезный продукт, от которого распухли и потрескались у нас с Кандыбой языки и губы, но что же делать, есть-то надо, и чем студеней, тем больше.
У ворот конюшни торчала из забоев, осыпанных сенным крошевом, небольшая клетушка-сторожка. На ней ворошились воробьшки, спархивали во двор, к теплым конским котыхам, крошили их. Я скользнул мимо сторожки за угол и лоб в лоб столкнулся с маленьким старичком в круглой, саморуком шитой шапке, с кругло стриженной бородкой, с круглой луковкой носа, и когда старичок заговорил, мне и голос его показался кругленьким:
— Здоров живем, доброй молодец! — звякнув железными удилами уздечки, сказал он, поглядывая на мое оттопыренное пальтишко.
«Сейчас врежет по башке уздой!» — подумал я и отступил в сторону. Тропинка от сторожки только что прогребена, я увяз в рыхлом намете.
— Да ты не бойся, не бойся меня.
— Я и не боюсь.
— Давненько, примечаю, пасешься на конюшне, давненько! Зачем овес-то таскаешь?
— Известно зачем. Есть.
— И-ы-ы-ысь! Ты чё, конь или курица?
Я хотел отшить деда, но пришлось сдержаться — не до капризу, надо как-то выпутываться. Глазом я намечал, как и где ловчее утечь с конного двора. Но в этот час на конном дворе толпилось много народу. Коновозчики запрягали лошадей в сани с ящиками-коробками — для вывозки опилок с лесозаводов, в сани без ящиков — на этих доставляли отходы — обрезь кирпичному заводу и на мощение дорог. «Не проскочить, ой, кажется, не проскочить! Переймут!»
— А ну-кось! — прихватив за рукав пальтишка, дед несильно, однако настойчиво поволок меня в сторожку.
«Все! Засыпался!»
В сторожке, пахнущей подгорелой глиной, лошадиными потниками и мышами, дед сунул мне мятый котелок с недоеденной драченой, деревянную треснутую ложку, дал кусок хлеба, круглой луковицей будто печатью пристукнув по нему сверху.
Я не стал отпираться от еды. Угощал дед без болтовни, попреков и надежд на благодарную слезу. Он даже хмуро и как бы недовольно угощал, и я к нему проникся хотя и неполным, хотя и скрытым, но все же доверием, кроме того, надеялся во время еды обмозговать, как смотаться отсюда либо сигнал Кандыбе подать, чтобы отрывался он из нашего убежища. Однако дедок разумненький попался, не оставлял времени на соображения, донимал расспросами, что, да как, да откуда, да зачем. Я пробовал нести околесицу, с поселка, мол, нефтебазы, родители пригорели на керосинчике и сейчас находятся в домике, который зовется: «Я тебя вижу, ты меня нет».
— Полно, полно плести лапти-то! Я сам их мастер плесть! — остановил меня старичок. — Вы по суседству с осени жили, в парикмахерской. После примолкли. Тебя бросили, что ли?
Я уткнулся взглядом в котелок, против воли часто заморгал.
— Навроде. — Мне бы на том и кончить, да повело меня на беседу в тепле и уюте сторожки, при старичонке, тоже по-домашнему уютном. Он слушал, слушал и вперился в меня глазками:
— Пошто в приют не идешь?
— Да так… боюсь…
— Эко, эко, боится! А тройку-магазинишко шшипать, тиятр пужать налетом и поджогом?..
— Поджог?! Ты чё? Поджог — это не мы…
— Э-э, дак ты ишшо и не один! Шайка у вас?
— Двое нас, — заметался мой умишко, думаю, чего не надо, говорю не то, что следует.
— Двое — уж шайка. Ну. лады, — старичок задумчиво пошарился в бороде. — Лады. На вот горбылек, ташши другу-то. Докуль держаться затеяли?
— До весны.
— До пароходов, стало быть? Потом чё?
— Потом! Потом по этому месту долотом! Больно ты хитер, дедушко!
— Хитер не хитер, оннако разумею: скоко кобылке ни прыгать, а в стойле быть! Ешли покрученник твой али кореш, как там у вас, одет тако же, как ты, карачун вам. — Дедок картох из-под нар выкатил, в карманы мои засунул. — Сдавайтесь в полон. Не резон держать оборону. Ешли, упаси Господь, перезимуете, подадитесь на магистраль — хто вас там ждет? Хто вам чего припас? Снова воровать? Опеть шаромыжничать?
— Утомил ты меня, дедушко. Отпускай, ешли…
— Ишь эть, ишь какой! Утомил я его! Пропадай, коль людских слов не понимаешь. Поймаю в кормушке — уздой опояшу!
— Боевой дедушко-то! Солдатом, видать, сражался в японскую, может, еще в турецкую войну. — С шутками-прибаутками рассказывал я свое приключение Кандыбе, но он, веселый человек, не смеялся. Картошки надвое разрезал, на печь положил, горбушку разломил и тоже на горячую печь пристроил — Кандыба любил подгорелый хлеб, только что из печи вынутого хлеба, печенюшек, калачей не едал сроду, но первобытная душа его требовала жареного, на огне паленого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
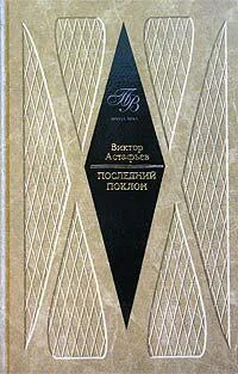

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

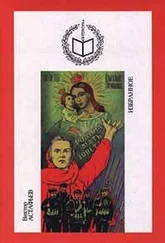



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



