— Х-хосыподи! — крестится бабушка из Сисима. — Как рематизня-то мучает человека! Совсем застудил парнишонку старый бес!…
Зимний день в Заполярье с воробьиный носок. При свете уличных фонарей спешили мы с дедом на протоку. Я впереди семенил, он сзади покашливал, трубочку посасывал, искрами сорил. По обледенелому, глезкому взвозу я враскат спустился на подшитых валенках — дратва трещала. Дед тоже устремлен был вперед, но возраст и спесь не давали ему катнуться на валенках. Он меня поругивал за такую ребячливость, родители, мол, не шибко торопятся одеть тебя, обуть, а у меня, мол, какие капиталы? Ох уж эти капиталы! Будь они неладны! Сколь их человеку надобно и зачем?
Из потерпевшей когда-то аварию, вросшей в берег и снег баржи через проломанную корму я доставал пешню, сачок, железный крючок и топор.
Пошла работа до большого пота! Отгребали снег, долбили лед попеременно, вычищали проруби. Вот и вода затемнела, глубокая, беззрачная. В воду веревочка обледенелая спускается, к веревочке железяка привязана и на дно брошена, дальше сам подпуск идет. Взявшись за тетиву рукой, я слушаю. Дед делает вид, что ему на все тут наплевать, да еще и высморкаться. «Е-э-э-эсь! Дергает!» — выталкиваю я шепот из сдавленной груди.
Дед с притворной ленью кивает: давай, действуй.
«О, миг счастливый, сладкий!» — пел в кино артист женщине, разряженной в пух и прах, валясь перед нею на колени. Ни шиша он, тот артист, не ведает, не понимает! Порыбачил бы хоть раз, поводил бы рыбину на леске, вот тогда и узнал бы, что такое настоящий «миг»! Не чудо ли?! Не колдовство ли! Зима кругом, стужа, снег толсто на льду лежит, все обмерло, остановилось, а тут, ровно бы из преисподней, возникают недовольные налимьи хари. Дед отцепляет рыбин и небрежно, даже с сердцем отшвыривает их в снег. Возятся пьяно в снегу поселенцы, вымажутся ровно бы в известке и так, с непокорно загнутым хвостом, и остынут. А тут возьми да еще событие наступи — налим в лунку не пролезает! Событие так событие! Дергать подпуск нельзя — оборвешь фильдеперсовое коленце, но отпускать налимища не хочется. Дух во мне занялся. Дед всякую спесь утратил, бесом вокруг лунки крутится, хлопает себя по коленям, отпнул меня в сторону, на брюхо упал, руку в прорубь засунул, изучая «подходы», затем, молодецки ахая, раздалбливал прорубь. Я рыдал: «Дедонька, миленький, не обрежь! Не обрежь!..» — «Не базлай под руку!» — демонским огнем пылал глаз деда, того и гляди завезет. Я отпрянул в сторону, но скоро опять плясал возле лунки, отгребал голыми руками лед, не чуя никакого мороза, о чем-то молил деда, подавал ему разные советы. Любил ли я деда? Не знаю. Не берусь судить о таком сложном чувстве, не под силу мне это. Но в тот счастливый миг, когда, не обрезав подпуска пешней, потянул и выволок дед огромного поселенца на лед и сам в изнеможении сел тут же, я обожал деда, я готов был его обнять, расцеловать и не знаю, что еще сделать. Налим, изогнувшись дугой, лежал брюхом в снегу, яростно и устало шевелил жабрами, с недоумением тараща на нас сытые, наглые кругляшки глаз, белеющих от мороза. Как это так? Плавал-плавал в полной безопасности, подо льдом, икру метал иль молоками икру поливал, терся брюхом о песок, собирался подзакусить мелкой рыбешкой после утомительного труда и вот попался! Никакого, значит, спасения нет нашему брату и подо льдом!
Я похлопал поселенца по белому толстому пузу и сказал, что если мой дед возьмется за дело всерьез, то вашему брату и ловиться не надо, вашему брату только и останется самому на берег выскакивать и умолять, возьми, мол, уж сразу, живьем, пожалуйста, Пал Яковлевич! Мы тебя боимся!.. Дед крякнул одобрительно, высморкался, набил еще раз трубку махрой и нежно мне сказал: «Жиган, твою мать!..»
Я продолжал толковать с поселенцем:
— А тебя мы с дедом изжарим и съедим, хоть ты и бухгалтером, может, даже и директором средь налимов состоял. Вон у тя какая авторитетная пуза! Уяснил?
Налим разом покорно обвял весь, скорчился, окоченел. Дед довольнехонько хохотнул, еще раз назвал меня жиганом и сей же час сделался суровым:
— Хватит баловать! Наживляй переметы!
В одной книге я вычитал: «За каждую минуту наслажденья мы платим мукой и слезой» иль что-то в этом роде. За рыбачьи радости мы платили такими муками и слезами, которые ведомы лишь каторжникам да рыбакам. Накаленные морозом уды припаивались к пальцам и отдирались с кожей. Гальяны совсем в руках не держались, выпавши в снег, тут же застывали и ломались спичками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
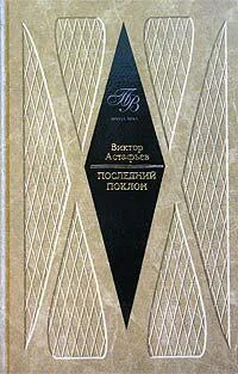

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

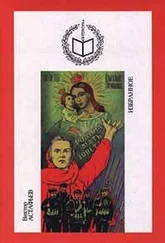



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



