«Сольем наш ентузиазм с волнующим акияном мирового пролетариата!» И люди, которые послабже сердцем, плакали, слушая тетку Татьяну. Даже бабушка моя, Катерина Петровна, робела от умных слов невестки и стала навеличивать ее — Татьяна Ванна, хотя по заглазью продолжала срамить ее за бездомовность, необиходность, но уж только при закрытых ставнях позволяла себе разоряться бабушка.
Хмурился, помалкивал Федоран Фокин, мужик искони здешний, еще молодой, он понимал, что словами, даже самыми громкими, самыми умными, народ и обобществленную скотину не прокормишь. В артели же все шло на растатур: пашни зарастали, мельница с зимы стояла, сена поставлено с гулькин нос. Тревожно за село, за людей. Кое-кого да кое-что правленцы похозяйственней спасли, отстояли — ретивые горланы рвались не только поскорее выдворить из села богатеев, но и порушить до основания все кулацкое — молотилки, жнейки и всякий прочий крестьянский инвентарь.
Терпеливо и долго вразумлял умный мужик вошедших в раж говорунов, призывая пахать землю под зябь, расковыривать межи в горах — на покатах да по склонам увалов заплатами расклеенных пашен, и в первую голову — пустить мельницу. Искони кормившиеся с мельницы, овсянские жители ручных жерновов не знали, толочь зерно в ступах ленились, парили его в чугунах и ели целиком.
С такого харча много не наработаешь. Ребятишки стали маяться животами. Тут кто-то и вспомнил про моего папу — он один на селе умел управляться с мельницей — битьем и пряником заманив вертлявого старшего внука на мельницу, дед Яков научил его своему ремеслу. Поскольку мельница была на селе вроде клуба, где круглый год шла неутихающая гулянка, прерываемая лишь авариями да когда «жернов ковать», — папе здесь поглянулось. Приучился он на мельнице пить, на спор тягаться на опоясках, скакать верхом на лошадях, лазить на приводной столб, воровать на селе кур на закусь, жить обособленной, «мельничной» жизнью, где вроде бы все дозволено. В пылью и паутиной задернутое, шершниными гнездами увешанное, грохочущее, содрогающееся и в то же время совершенно глухое, об одно оконце в конторке мельничное помещение никакие бабы, кроме самогонщицы Тришихи, не допускались. Мололи мужики иной раз по неделе, ссылаясь на очередь, с мельницы являлись чуть живы, пропившиеся, со свежеподстриженной башкой — папа, помимо обязанностей мельника, безвозмездно занимался еще и цирюльным делом.
Правление посулило папе со временем, когда он честным трудом докажет сознательность, записать его в колхоз, выделить «фатеру» в старом запустелом доме. Маме тоже разрешено было принять участие в труде на «общественной ниве», к которому она с радостью и приступила, надеясь, что с этой поры все пойдет на успокоение, может, и в самом деле наступит то благоденствие, о котором так горячо толкует свояченица Танька — важная фигура на селе, хотя детишки ее как были голодны и запущены, такими и остались, и, кабы не бабушка Катерина Петровна, не дед Илья да не тетки с дядьями, вовсе бы им беспризорно помирать. Дядя Митрий — муж тетки Татьяны, сгорел с вина, правда, бабушка Катерина Петровна до самой смерти не соглашалась с таким позорным заключением и утверждала, что помер он от недогляда бабьего иль, того хуже, порешил самого себя от стыдобушки.
«Может, и наших из далекой земли вернут?» — высказывала затаенную мысль моя мама, которая в доме свекра из стаек и конюшен не вылезала, была бодана, топтана и кусана диким скотом, от печи не отходила, матюков полную котомку наполучала от одноглазого «тятеньки», но вот тосковала по своим, жалела Марью из Сисима: «Как она там, на дальней сторонушке с оравой?»
«Блажен человек, иже и скоты милует, — корила ее бабушка Катерина Петровна, — мало ты на чужеспинников ломила? Мало! Надорвалась! Болесь добыла! Естество женское повредила…»
«Об чем ты, мама? Детишки ведь малые уехали невесть куда». И никогда мама не проходила мимо дома свекра просто так, поклонится гнезду, в котором изработала молодость, всплакнет: «Тятенька! Марья! Дедушко! Где-ка вы? Студено, поди-ко, без родимого-то угла?» Все это мне часто рассказывала бабушка Катерина Петровна после гибели мамы, рассказывала всякий раз с прибавлением не только слез, но и черт маминого характера, привычек, поступков, и облик мамы с годами все более высветлялся в памяти бабушки, оттого во мне он свят, и, хотя я понимаю, что облик моей мамы, вторично рожденный и созданный бабушкиной виной перед рано погибнувшей дочерью и моей тоской по маме, едва ли сходился с обликом простой, работящей крестьянки, мама была и теперь уж навеки останется для меня самым прекрасным, самым чистым человеком, даже не человеком, обожествленным образом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
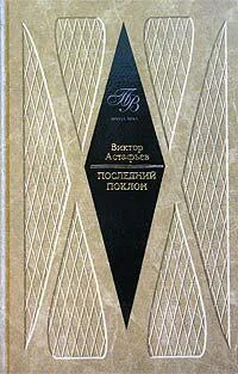

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

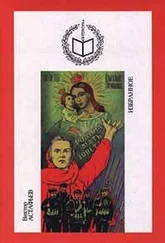



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



