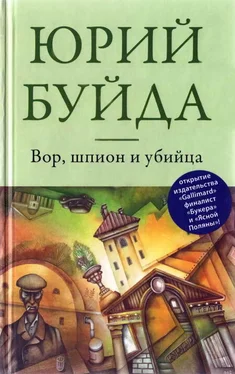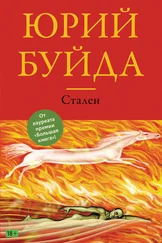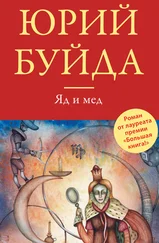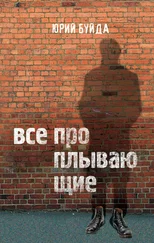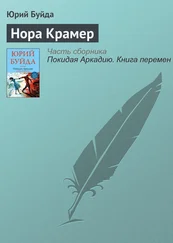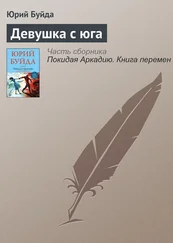Еще бабушка вспоминала о своих предках — о белорусах, русских и поляках (русскими в Белоруссии считались тогда все православные, а поляками — все католики), о католиках, униатах и православных, об офицерах, участвовавших в подавлении польских восстаний со времен Костюшко, и о повстанцах, которые стреляли в своих братьев, служивших у графа Муравьева, о торговле мореными дубами, кормившей деревню, и о белорусском голоде, когда от весеннего хлеба из сосновой коры с лебедой животы у детей становились зеленоватыми, о загадочных белорусских болезнях — мрое и колтуне…
Когда родители ссорились, поминая друг дружке былые обиды, бабушка пыталась остановить их: «Не зови черта — и не явится».
В мае 1970 года, когда праздновалось 25-летие победы и все мужчины городка упились в стельку, я сказал что-то презрительное об «этих героях», на что бабушка заметила: «На Руси героев всегда уважали, но любили — праведников. Герой сегодня подвиг совершил, товарищей от смерти спас, родную землю защитил, а пришел домой — жену избил, а потом еще и украл, и обманул, и сподличал. Герои — люди разовые. Земля стоит на праведниках, не на героях».
Незадолго до смерти она сказала, отвечая на какие-то мои разглагольствования о «несвободной стране»: «Свобода — это ты. Только никогда не забывай о том, что и тюрьма — тоже ты». И еще она не любила, когда кого-нибудь называли совестью народа: «Совесть — это бог в человеке. У народа нету совести — только у человека. Тем человек от скотины и отличается — совестью. А совесть народа придумали бессовестные люди».
Она умерла в девяносто шесть лет — самой молодой из женщин в их семье: сердце не выдержало в конце концов переезда с благословенной Украины в сырую Прибалтику.
Отец дружка отдал нам одну из своих лодок — хорошо просмоленную и ладно сшитую маленькую плоскодонку, и с ранней весны мы пропадали на реке. Но с наступлением лета друзья мои разъехались кто куда, и я остался в полном одиночестве.
Тем летом я впервые по-настоящему вчитался в Достоевского и добрался до зарубежной литературы. Мне казалось, что романы Достоевского написаны плохо, небрежно, наспех, композиционно выстроены кое-как, особенно «Идиот», но при этом чувствовал: его картонные огни обжигают всерьез, до волдырей. Тогда же я прочел «Житие протопопа Аввакума» и был поражен его огненной речью, рвущейся из пут языка. Но были еще «Волшебная гора», «Фаустус», «Железный Густав» Фаллады, Вольфганг Кеппен, Алехо Карпентьер, Фолкнер, который завлек «Шумом и яростью», а потом явился во всей мощи и блеске в «Медведе», «Моби Дик», прочитанный несколько раз подряд, и «Лорд Джим», который для меня и сегодня остается величайшим британским романом. И как-то случайно пришли стихи — Павел Васильев, Заболоцкий, Боратынский, Языков, Веневитинов, даже Сумароков с «Дмитрием Самозванцем», варварский изнеженный язык которого произвел на меня очень сильное впечатление. Дошло до того, что я и сам стал писать стихи — чаще без рифмы, километрами.
Иногда я брал лодку и отправлялся на весь день куда-нибудь подальше, на какой-нибудь безлюдный песчаный пляж, где можно было загорать, читать, мечтать и дремать. Чаще всего я уплывал вниз по Преголе, к Зондиттену, как по старинке все называли поселок Лунино.
Там-то я и встретил Милу.
Подплыв к облюбованному месту, я увидел на берегу рослую девушку, которая, широко расставив ноги, вытирала полотенцем длинные и густые рыжеватые волосы. Она была полновата приятной тугой полнотой, с высокими толстыми ногами, маленькими ступнями, выпуклым детским животиком и дивными загорелыми плечами. Серые с голубизной глаза, россыпь бледных веснушек, красиво вырезанный рот и мягкая улыбка. Мотнула головой, перекинув часть волос на грудь, и стала похожа на Боттичеллиеву Венеру, стоящую в раковине.
— А я тебя знаю, — сказала она. — Мы жили в одной квартире, через дверь, которая была заколочена. Когда тебя привезли из роддома, я стала бросать сырые яйца в эту дверь, и твоя мать пригрозила надрать мне уши. Мне было пять или шесть, и рыжая я была — страсть.
Она говорила о первой нашей квартире, в которой мы прожили несколько месяцев, а потом переехали в дом у водокачки. Имени ее я, конечно, помнить не мог.
— Людмила, — сказала она. — Мила.
Она только что окончила пединститут и первого сентября должна была выйти на работу в нашу школу — учительницей русского языка и литературы в старших классах. Я смутился: похоже, ее следовало называть по имени-отчеству, но она мягко повторила: «Мила», и я стал называть ее Милой. Она была воплощением милоты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу