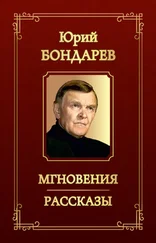— Был и есть! — отрезал Тарутин, кривясь, как в позыве тошноты. — Без всей вашей лживой науки земля была бы чище! Изнасиловали и надругались над собственной матерью! Плюгавцы!.. И ты в той же банде!
— Будет разумно, если мы уйдем отсюда вместе, — сказал Дроздов. — Пить тебе больше нельзя. Поверь, говорю из любви к тебе.
Тарутин вырвал руку, глянул неостывшими от ярости глазами.
— Пошел к черту, Игорь! Пьян я или трезв — дело абсолютно мое! Будь счастлив! Смотри, как я пьян…
Он повернулся, как поворачиваются гимнасты, всем корпусом, не покачнувшись, и прочными, рассчитанными шагами пошел через всю комнату к двери, мимо столиков, плотно загороженных спинами гостей с тарелками в руках. Вокруг затихал говор, а он шел в этом мертвенном безмолвии, точно сквозь пустоту, украдкой провожаемый отчужденно враждебными, презрительными взглядами, и Дроздов отметил про себя, что никто из оскорбленных коллег не осмелился встретиться с ним глазами: его опасались, его боялись, его трусливо сторонились — возможно, этого он хотел всегда, не сближаясь, не играя ни с кем в приятельские отношения, не желая выглядеть отзывчивым, добрым. В ту минуту Дроздову подумалось, что в каждом поражении Тарутина была какая-то недобрая победа, и тут же раздался истерический, полуобморочный вскрик из-за стола:
— Чацкий! Чацкий!
— По струям шампанского мы могли бы забраться на небо! Ха-ха! Пошляк!
— Не Чацкий, а Берия! Он расстрелял бы всех нас! Дайте ему пулемет! К стенке бы поставил! К стенке!..
— Инквизитор!..
— Ниспровергатель! Невежда! Бездарность!
Послышался злорадный смех, хохочущий кашель, крики, стук вилок по тарелкам, топот ногами, женский визг, как будто огромные черные крылья со свистом рассекали, резали душный воздух в комнате — над гвалтом, звоном разбитых рюмок, смехом, истерикой, над красным лицом Чернышева. Он был в драматическом душевном состоянии и, выпучив глаза, выбежал откуда-то из толпы гостей за столом и с видом врача, наконец опознавшего умалишенного, задвигался, засеменил сбоку Тарутина, соболезнующе приговаривая:
— Николай Михайлович, я вынужден, я вынужден, знаете…
Тогда Тарутин приостановился возле двери и снова, как у окна, не покачнувшись, повернулся всем корпусом к столу, в упор принимая эту бушующую хохотом, визгом и криками бессильную ненависть к себе, сказал: «Прекрасно, я надолго запомню ваши милые лица, гуманисты», — и под его непрощающим, медленным взглядом стали опадать крики, топот, гвалт в комнате, мстительная истерика, жестокий взрыв беспощадности, который не мог даже предположить Дроздов в среде знакомых и незнакомых коллег, образованных, добропорядочных, и, загораясь сопротивлением и гневом, он выговорил:
— Так что же это, друзья? Все против одного? Завидная храбрость!..
Тарутин жестко рассмеялся.
— Сантименты, Дроздов! Один против всех. Так лучше. И надежнее. Никто не предаст. Общий привет!
Он поднес два пальца к виску и вышел. Все это было похоже на сумасшествие.
Он бросил пиджак на спинку кресла, распустил узел душившего его галстука и долго ходил по своей пустынной квартире, не успокаивающей прижившейся здесь тишиной, сладковатым запахом книг и пыли, скрипом рассохшегося паркета. Он то и дело останавливался перед телефоном, удерживая себя набрать номер Тарутина, не вполне уверенный в разумном разговоре с ним сейчас.
Злобный хохот, крики, женские взвизги, топот ног вновь отпечатывались в ушах Дроздова и отвратительно, и враждебно звучали еще. Все, что произошло на вечере у Чернышева, все было скандальным, пьяным, шутовским, но одновременно врезалось в сознание какое-то не пьяное, а осмысленное бесстрашие Тарутина, близкое к отчаянию его презрение, его вызов и Битвину, и академику Козину, и своим коллегам, как если бы он порывал с ними навсегда.
— Вот бреду я вдоль большой дороги в тихом свете гаснущего дня. Да, Тютчев, Тютчев! — сказал вслух Дроздов и до боли провел рукой по лбу. — И что же? Что?
За окнами синел над крышами сентябрьский вечер, и темнеющая в небе синева, огни улицы были еще теплыми, летними. Но оголяющий электрический свет в квартире, мышиный писк паркета, глухое ворчание холодильника на кухне, синтетический запах мебели, которую когда-то любовно подбирала Юлия, стеллажи, заставленные пыльными книгами, и заваленный папками письменный стол — все после ухода ее было неотразимым признаком одиночества, тягостным по вечерам, когда память возвращала его к их давней молодой поре, к незабвенным дням их близости. И с комком в горле он вспоминал Митю, которого он неизъяснимо, почти мистически полюбил, еще не видя его, но уже радостно чувствуя по скупым словам ее телеграммы, переданной ему ночью по телефону в забытом миром алтайском поселке, где он задерживался в командировке. Этот текст он помнил с удивительной разительностью: «Милый Игорь, теперь у нас есть мальчик». Тогда он вышел с почты, как хмельной, и сел на крыльце под соснами, глядя в весеннее небо, где в черноте над тайгой происходило таинственное праздничное колдовство, где все было иллюминировано взрывами, горением, мерцанием, пульсацией, сиянием лучевых колец.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу