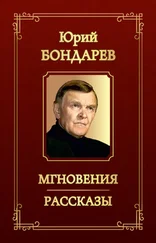— Значит, в госпиталь хочешь? И смерть все видишь? Ух, как ты мне противен, — гадливо выговорил Крымов, глядя на червеобразно вихляющуюся под ногами белую спину, и с непрекословной решимостью приказал: — А ну сядь!
И сдернув рукавицы, рванул левой рукой за маскхалат Молочкова, поспешно севшего на снег в онемелом оцепенении (только глаза, залитые слезами, мерцали, защищались, выкатывались в ужасе), а правой рукой на ощупь откинул скользкую, сплошь в инее крышку кобуры на его ремне, нащупывая ледяную рукоятку трофейного парабеллума. Рукоятка не поддавалась, льдом вмерзла в тесные края кобуры, и тогда, морщась, сдирая кожу на пальцах, он с резким скрипом выдернул парабеллум, и тотчас визгливый крик оглушил его:
— Не надо, не надо! Товарищ лейтенант, миленький!..
И с задушливым стоном Молочков упал на четвереньки и суматошно пополз куда-то боком по дну воронки, загнанно оглянулся черными ямами глаз, рыдающе прохрипел: «Не надо!» — и зарылся лицом в снег, елозя валенками.
— Не тебя, сволочонок, а мать твою жалко. Ошибся я в тебе, мокрица!.. Сядь, я сказал! — повторил брезгливо Крымов и снова сильным рывком поднял Молочкова с земли, а подняв, ощутил студенистую дрожь его ослабевшего тела, тяжкое дыхание его округленно и немо раскрывавшегося рта, глухо скомандовал: — А ну, гляди в небо и дай руку, если жить хочешь! Вверх гляди, щенок чертов! — крикнул он и, дернув к себе безвольную руку Молочкова, быстрым движением приложил пригоршню снега к рукаву его масккостюма и рассчитанно выстрелил в край снежной пригоршни, зная, что делает…
(Позднее, спустя много лет, не забывая те годы отчаянного и жестокого риска, но забывая того молоденького и не в меру решительного лейтенанта Крымова, почти всегда удачливого командира взвода полковой разведки, он часто думал о прежней своей безбоязненности, с которой распоряжался судьбой людей, о грубости собственных поступков, о своей лейтенантской безоглядности, когда мгновенно отыскивался выход из любого положения, когда не было сомнений, сопровождавших его потом целую жизнь.)
Но тогда, в ту январскую ночь, после его выстрела Молочков охнул, закатил мертво побелевшие глаза и повалился спиной на скат воронки, суча ногами, как в предсмертной агонии. А Крымов подождал, присел рядом, стволом пистолета разорвал индивидуальный пакет, в молчании перебинтовал темно набухавший рукав масккостюма и, чувствуя железистый запах крови, липкость на пальцах, рвотную спазму в горле, проговорил с презрительной яростью:
— А теперь, не оглядываясь, мотай в тыл! Целому тебе там не поверят, поэтому кричи громче: немцы ранили, а лейтенант перевязал! Жив будешь, сволочонок. Но чтобы я тебя больше никогда не видел около разведки. Увижу — все вспомню и тогда не пожалею девять граммов. Давай бегом отсюда, чтоб ноги в задницу влипали!
Однако через сутки ему вновь пришлось увидеть Молочкова, уже в медсанбате, куда Крымова привезли на рассвете той зловещей ночи, поглотившей пятерых человек из его разведвзвода.
Память навсегда сохранила те безысходные минуты, когда он один, обдуваемый секущей поземкой, полз к правому берегу, а потом лежал, обессиленный, под звездным, таким бесстрастно-холодным небом, в безмолвии неизвестно почему затаившейся нейтральной полосы.
Впереди молчали пулеметы, нигде ни единой ракеты, замолк человеческий вопль на нейтралке, лишь внизу с трескучим звоном лопался в лютой стуже лед на реке, где дымилась на середине пробитая снарядом черная полынья. А он, отуманенный жаром и болью, мучимый жаждой, полз и воображал дышащую морозом хрустально-чистую влагу, представлял, как он с наслаждением погружает в холод воды подбородок и пьет ненасытно, большими, охлаждающими горло глотками и не может напиться.
И последнее, что еще ясно осталось в памяти, была черно-тяжелая волна полыньи (там качались и вытягивались нитями звезды!), вкус огненно-ледяной воды, от которой он задохнулся и замерз, и голубоватая сумеречность правого берега, куда он дополз, волоча на локте автомат, опасно позвякивающий прикладом по бугоркам речного льда.
Потом все было размыто — низина, плохо различимые вверху сугробы первых немецких траншей, нескончаемая зимняя ночь над закоченевшими садами полусгоревшего села, удары крови в ушах, неотступная мысль о необходимости во что бы то ни стало узнать, что здесь произошло, шелест поземки в пустынной низине, ни выстрела, ни света ракеты, ни единого признака, объясняющего, что случилось с разведгруппой, хотя мнилось: поземка пахла холодным порохом…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу