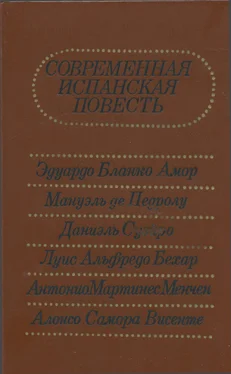В ту ночь все время слышались какие‑то шумы и шорохи, наплывавшие смутными волнами, и у меня возникло предчувствие, что придет конец деспотическому правле- пию^Сегунды. По дороге в коллеж я спросил у провожавшего меня слуги о причине ночных шумов, но этог человек никогда не отвечал на мои вопросы, а только пристально смотрел на меня своими туманными серыми глазами.
Я провел так почти два ужасных месяца. И думаю, за всю жизнь не испытал большей радости, чем в тот день, когда увидел дядю Альфонсо и его жену, тетю Клару. Во время их отсутствия у нас, как никогда, было тихо и чисто и наш дом был таким однообразным, упорядоченным и приличным, но зато я за долгие эти недели ближе узнал стае го другого дядю, Либерио, и с тех пор нас связывала с ним искренняя дружба до самого дня его нелепой смерти. Иногда он меня вытаскивал из моей каморки и брал с собой на прогулку или в художественную школу, где по- прежнему занимался рисованием и лепкой; там этот неутомимый говорун метался от одной компании к другой и представлял меня своим товарищам и их подружкам, каждый раз выдумывая мне новое имя и национальность, и потому я очень сомневаюсь, что хоть один из них понял, кто же я такой на самом деле: один день я был русским по имени Дмитрий, на другой день становился Томасом из Сеговии, а потом превращался в Жан Пьера и оказывался внебрачным сыном дяди Либерио, плодом его несчастпой любви к одной великосветской француженке, чье имя он не смел назвать… По правде говоря, сам не знаю, развлекали меня эти небылицы о моей скромной персоне или, наоборот, смущали и оскорбляли, так что я едва удерживался от слез. Но сам дядя Либерио бесконечно наслаждался своими безобидными шутками. Мне кажется, что именно он научил меня ценить смех и смеяться. К тому же он научил меня смеяться ни над чем или надо всем, но это было уже много позже. Он говорил мне: «Давай‑ка поглядим, как ты смеешься, ведь надо же упражняться», и тут же возмущал окрестности хохотом — громоподобным, беспричинным, нелепым, но по — настоящему веселым и заразительным. Поначалу я только корчил рожи и издавал какое‑то бульканье, подражая истинному смеху, но потом — благодаря усердным занятиям, сказал бы он, — я стал брать верх в наших откровенных, но и безобидных стычках, я долго сопротивлялся, притворялся снисходительноскучающим или порывался положить конец его выходкам, но в результате всегда сдавался, покоренный его неотра зимым смехом. Иногда Лнберио принимался передразнивать всех обитателей нашего дома, чьи интонации, привычки и жесты он знал досконально, он представлял и людей, и животных, и если бы он их не высмеивал, мои нервы не выдержали бы: у меня волосы дыбом вставали от одного только воспоминания о каменно — непроницаемом старческом лице Сегунды, о язвительном голосе и стальных глазах лакея, сопровождавшего меня каждый раз, как я выходил из дому, о противном урчании трех огромных полосатых котов, вечно крутившихся возле дяди Альфонсо, или о сухом, как и его приказы, смехе.
То время внесло некоторые изменения в мою жизнь в лоне этого дома. Например, именно тогда по не подлежащему обжалованию приговору Сегунды возникло обыкновение не выпускать меня из дому без Педро Себастьяна — того самого отвратительного лакея, изувеченного многочисленными ранами в многочисленных войнах, который по приказу дяди Альфонсо усаживался на корточки в углу большой столовой и приводил нас во время еды в ужас своими грубыми солдатскими песнями, — и он должен был сопровождать меня (или следить за мной?), как уже говорилось, всегда, когда я выходил на улицу, чтобы я не мог предаваться играм и шалостям, свойственным моему возрасту, а также общаться с соседскими детьми и однокашниками из коллежа, хотя подобные искушения нечасто посещали меня. Или чтобы я не сбежал навестить свою мать.
О, действительно, в ту ночь молодожены вернулись из своего долгого свадебного путешествия, и, когда я вошел в широкие двери столовой, они снова сидели во главе стола: оп, такой же строгий и непреклонный, как и два месяца тому назад, и Клара, которую я видел всего два раза, и потому она казалась мне удивительной красавицей, чистой, словно ангел, но какой‑то чужой, несмотря на то что слабая улыбка освещала ее лицо. Все вели себя как обычно, и я протянул для осмотра руки Сегунде, которая наблюдала за входом в столовую с тем же рвением, что и много лет назад. Педро Себастьян, стоявший за стулом Дяди Альфонсо, от радости, что снова видит своего хозяина, улыбался идиотской улыбкой. А возле Клары, чуть поодаль, в ожидании приказаний надменной сеньоры затаила дыхание ее горничная.
Читать дальше