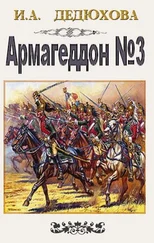Однако Павел, как быстро стало понятно, считал опеку женского сословия важным делом. Он неизменно встречался на углу Коблевской и, как только видел Анну, вырастал на вершок, щеголял осанкой и вообще, как выражалась Зина, «принимал позы». Но был молчалив. Будешь тут, впрочем, молчаливым, когда Зина рядом, со своими ехидными глазищами. А куда ее денешь, если ей с Анной — на те же уроки?
Приходилось ходить вчетвером. Хоть бы она во Владека влюбилась, что ли, — мстительно думал Павел. Поделом бы ей. Владек был известный «господин сердечкин» и влюблялся, как легко признавался Павлу, приблизительно в три недели раз. Каждый раз — на почтительной дистанции, и каждый раз — на всю жизнь. Последней любовью была цирковая наездница, крутившая сальто на лошадином крупе. Но недавно она упала с лошади, и униформист, кинувшийся ее поднимать, нарочно или случайно смахнул с ее головы белокурый парик. А под париком прекрасная дама оказалась лысой, с редким черным пушком на голом черепе. Сердце Владека не выдержало этого зрелища, и теперь в нем образовалась вакансия — до следующей влюбленности. Однако непохоже было, чтобы предметом была Зина. Они все подшучивали с Владеком друг над другом и надо всем на свете, как будто именно они были брат и сестра. Да и может ли Зина вообще в кого-то влюбиться, с ее невозможным характером? Вот и останется в наказание старой девой, — размышлял Павел с удовлетворением.
Анна обо всех этих сложных расчетах ничего не знала. Она шла себе в зеленом форменном пальтишке с черной пелериной, болтала с Зиной и слушала вполуха разговоры мальчиков о футболе. Они все прямо с ума посходили на футболе, башмаки бутсами называют, беготню — спортом, слава Богу хоть мяч — мячом, а не чем другим. Она поняла, что немножко завидует, и рассмеялась.
На углу мокла под мелкой водяной пылью какая-то прилепленная к стене бумага, но они не обратили на нее внимания.
— По случаю высочайшего манифеста о даровании гражданских свобод, занятия в гимназии прекращаются на три дня, — сообщила классная наставница присевшим в реверансе девочкам. — Идите все домой и постарайтесь не разделять возбуждения взрослых.
Она никогда не улыбалась, их «мадам Бонтон», сколько Анна ее помнила. Посмеивались только ее глаза и голос.
— Ну конечно, — тут же скомментировала Зина, — взрослым небось свободу насовсем, а нам всего на три дня!
Свободой они насладились сразу: слетели по гимназической лестнице бегом, хотя это было строжайше запрещено. Дождь прекратился, и вокруг той мокрой бумаги собралась уже кучка народу. Кто-то даже запел «Марсельезу». Анне с Зиной хотелось бы подойти и прочитать, что там написано, они сообразили теперь, что это манифест и есть. Но протискиваться в толпу было все же неприлично, хоть теперь и свобода. Так что они пошли в гости к Зине, чтобы на досуге обдумать, как получше воспользоваться неожиданно привалившим счастьем.
У Петровых в доме уже царило то возбуждение, о котором, надо полагать, и предупреждала «мадам Бонтон». Не то чтобы старшие Петровы отдавали себе отчет, чего, собственно, теперь ожидать. Но был какой-то жутковатый восторг, ощущение великого события. Россия никогда не будет прежней, и это происходит прямо сейчас, на глазах! К вечеру, конечно, сойдутся гости. Мария Васильевна отдавала распоряжения кухарке. Иван Александрович ходил по гостиной и что-то напевал из «Тоски», потом не выдержал, надел пальто и объявил, что пройдется.
Девочки проскользнули в комнату Зины, пока их не заметили младшие. Расспрашивать старших было бы сейчас глупо. Услышанные фразы из манифеста были не очень понятны. Они уютно устроились на малиновом диванчике с великим множеством кругленьких подушек.
— Аня, как ты думаешь, свобода совести — это что?
— Не знаю. Нина Борисовна говорила, это чтоб все молились как хотят, кто как верит. Русские — нашему Богу, а евреи — еврейскому, а то есть еще мусульмане — так те Аллаху. А лучше всего, она говорила, чтоб никто не молился. Но я не уверена что правильно поняла, потому что она и так никогда на икону не крестится, когда приходит. Должно быть что-то еще.
— Конечно, она что-то напутала. Все и до сих пор молились по-своему, и церкви есть разные, и мечети, и синагоги. При чем тут свобода?
— Вот и я думаю, — вздохнула Анна, — если уж совесть — какая тут свобода? Того нельзя, этого нельзя, пойди туда, сделай то. И попробуй не послушайся, та же совесть тебя заест, и будешь ночью плакать. А ты знаешь, мне Наташа сказала, что у Милы Стецко из шестого класса такие ресницы — знаешь почему? Она их вазелином мажет! Спать ложится — и мажет, а утром умывается, и никто не знает.
Читать дальше