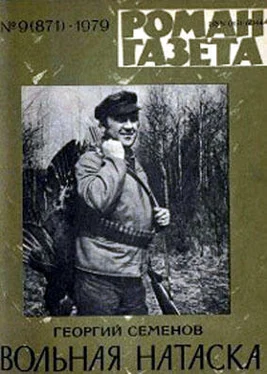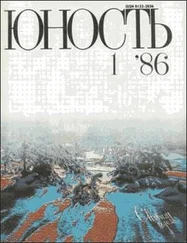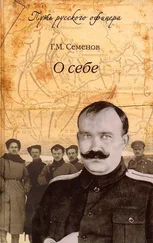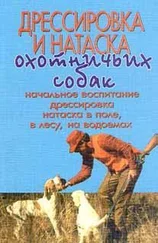Кожа на плечах у нее шелушилась пепельно-тонкими кружевами. Она накидывала на плечи шелковый платок, завязывая его узелком на груди, и, не сговариваясь с Бугорковым, шла к роднику, зная, что он идет рядом, но словно бы и не замечая его.
Она хорошела с каждым днем, набиралась сил и надежд на полное выздоровление сына, рассказывала без умолку об Олежке, а Бугорков с обожанием слушал ее.
— Ты знаешь, о чем я все время хочу тебя спросить? — сказал он ей однажды. — Ты мне скажи, только честно! Ты и в самом деле идешь сейчас, вот здесь, рядом со мной, идешь по берегу, существуешь? Или мне это только кажется? Я никак не могу поверить, привыкнуть! Честное слово! Мне все время хочется дотронуться до тебя, прикоснуться кончиком пальца. Можно?
А она в ответ спросила у него с игривой усмешкой, с незнакомым доселе жеманством:
— Ну а как ты сам-то живешь? Расскажи о себе.
— Я очень хорошо живу, — ответил Бугорков, хотя и почувствовал, что она не такого ответа ждала от него, спрашивая о чем-то более важном и существенном, о какой-то запредельной, неизъяснимой жизни его духа. Казалось, она спрашивала: «Скажи мне, ты, Значит, до сих пор меня любишь, да?»
Но Бугорков и представить себе не мог свой ответ на этот смутно звучащий, кажущийся ему вопрос, он даже не складывался в его сознании — это было действительно за пределами его возможностей — ответить, или, вернее, просто сказать ей обо всем, что он чувствовал, находясь рядом с ней. Он оскорбить боялся своими чувствами Верочку Воркуеву, живущую только сыном, говорящую, мечтающую только о сыне, оживающую вместе с сыном, которая и его-то обласкала своим вниманием только лишь потому, что он был восхищенным ее слушателем, был живым существом того внешнего мира, для которого она выхаживала сына и перед которым как бы держала теперь ответ за него и за себя. Она как бы говорила всякий раз с восторженным умилением в сердце: «Вот видите, люди, я родила вам сына, а он заболел у меня, но я все сделала для того, чтобы он остался с вами в этой удивительной жизни. Я буквально все сделала для этого! Поверьте мне — все! Теперь я буду очень стараться, что-бы мой сын понравился вам. Примите же его с миром».
Что-то молитвенное, какая-то истовость слышалась в ее голосе, когда она рассказывала о сыне, словно бы она к небесам обращалась с заклинанием: «Да приидет Сын человеческий во славе своей!» И глаза ее восторженно сияли при этом.
Он не узнавал Верочку Воркуеву в эти минуты, разум его затуманивался, воля расслаблялась, и он способен был лишь из тайного своего далека любоваться ею…
Отвечал, как школьник, на ее вопросы, рассказывая о работе, объясняя ей, что такое «паук», «фонарь» или «циклон». Если же она не совсем ясно понимала, он чертил на песке прутиком схему коллектора трубопроводов.
— Вообще-то я сам против этих «скорофонов», — говорил он с улыбкой. — Я за строгую техническую терминологию, но, черт побери, привыкаешь… Русский язык никак не хочет мириться с громоздкостью: «приточный насадок»! Что за приточный насадок? «Фонарь».! Или, например, циклон-промыватель конструкции института СИОТ, что означает — санитария и охрана труда. А их попросту «сиотами» зовут или «циклонами». Ну, циклон — это правильно. А вот «паук», или «фонарь», или, например, «свищ». Я против этого, хотя и привык сам… Ну почему «свищ»? Протертость в трубопроводе, дырка… Так нет же, все зовут «свищом». Тебе интересно это? — спрашивал он с сомнением.
На что Верочка Воркуева поспешно и убежденно отвечала:
— Очень! Я ведь редактор, мне это может пригодиться в работе. Но ты расскажи лучше о себе. Как ты живешь-то? — возвращалась она к своему вопросу.
А он опять слышал: «Скажи мне, ты до сих. пор еще любишь меня, да?»
Никогда, ни до ни после этой вневременной, жизни в Лужках, Бугорков не испытывал такой душевной напряженности, никогда раньше не приходила к нему мысль о том, что он мог бы тут прожить бесконечно долго, не так, конечно, праздно, как он жил теперь, а зашщаясь каким-то простым и ясным от начала и до конца трудом на своей земле, лишь бы рядом с ним была Верочка Воркуева. Никогда прежде не думал он об этой земле так, как думал теперь, сердцем понимая, что это его земля, его река, что он не гостит тут «дачником», а живет на. родной своей земле, завещанной ему прародителями.
Возникшее это чувство своей земли так остро пронизывало все его существо, сердце так колотилось, а рассудок так помутнялся, что он и о Верочке Воркуевой стал думать с какой-то неожиданной стороны. Ему стало казаться, что она недаром поселилась на его земле, недаром так полюбила его реку. Он стал видеть во всем этом тайное предзнаменование. Ему даже стало казаться, будто бы Верочка пришла в его дом.
Читать дальше