Ваське он ответил:
— Может, и душевная. Может, и морская. А все одно ты против меня салага. И вообще не русского флоту ты моряк, а жора. Вот такую моряцкую песню ты когда-нибудь слышал?
Он широко развел гармонь, наклонился к ней ухом и огромной скрюченной пятерней нажал на кнопки, на клавиши, или — как их там? — лады, запел хрипловатым, но вполне еще ладным голосом:
Зачем вы, девушки, боитесь
Шинели черного сукна?
Под ним таится нежно сердце,
Любовь и счастье моряка.
Костюм матроса презирают,
Нигде проходу не дают,
И тюрьмы нами заполняют,
Под суд военный отдают.
Покуда Федосов пел такую свою странную песню, я пробовал разглядеть, что написано на ленточке его бески. Но буквы сильно затерлись, а он держал голову в наклон, и я ничегошеньки не разобрал, кроме двух почти что сохранившихся букв «а» и «р» близко одна от другой. Ясно, что это название корабля, как полагалось у старинных моряков, но какое?
Федосов, пока я разглядывал да раздумывал, допел, сдвинул гармонь и снова спросил Ваську Косого:
— Вот про такую флотскую жизнь ты чё-нибудь слыхивал? Не? А должон был, раз служил. Выходит, ты самый жора-салага и есть. Дурное городишь, да я же ему еще и песню сыграй!
— Я салага?! Я кровь за Победу пролил! Руку-ногу потерял! Я — салага?!
— Я! Я! Я Харьков брал, я кровь мешками проливал! Вся грудь клопами искусана. Я коз... А кто видал? Раз громко кричишь — выходит, салага. Ты ногу потерял, я ногу потерял. Одна нога здесь, другая — там.
Федосов постучал козонками по правой ноге, выше колена. Отдалось деревянно.
— Понял? Ты, что ли, один кровь-то проливал? Но Васька больше всего на свете любил, чтобы последнее слово как-нибудь да оставалось за ним. Уж это про него было известно.
— А я и руку еще. Разница! Я сам знаешь как на баяне играл? Старый ты хрен! Все девки где ни хошь были мои, парни души не чаяли. А теперь кому я нужен — обрубок? Думаешь, душа не болит?
— Вот с того бы и начинал. А то — «старый хрен», «железяку за что получил»...
— А я вот руку-ногу — и ни медалюшечки! Ну за что тебе крест-то твой дали?
Меня толкнул под ребро локтем Володька Горбунок.
— Чего ты вперился? — сказал он шепотом. — Неловко же, пошли давай.
— Это же Федосов, — объяснил я ему, тоже шепотом.
— Сам вижу. Пошли.
Я и не заметил, когда ребята ко мне подошли. Я тут стоял уж минуты две, а два знакомых мне человека не обращали на меня никакого внимания. А мне так хотелось с кем-нибудь наконец потравить баланду, да хотя бы просто перекинуться двумя веселыми словечками — праздник же! И я, конечно, почуя повод, тут и встрял в разговор:
— За веру, царя и отечество!
Володька пхнул меня в бок уже взаправду, а Димка Голубев повинтил пальцем возле чуприны: дескать, дурак же ты и не лечишься. А чего они? Я же со свойскими людьми по-свойски обхожусь, обоих этих морячков знаю как облупленных. А они — меня.
— Я тебе покажу «веру»! — моментально почему-то вдруг окрысился Федосов. — Ошметок!
— Чего ты, Федосов? Я же...
— Я тебе не Федосов! Отчаливайте! Одна нога здесь...
— Вась, чего он? Я вас с Победой...
— Мало тебе сказали? — начал крутить глазами и Васька. Возражать ему при таком его состоянии было опасно.
— Чего тебе опять взбрындило, Кузнец? — спросил Димка Голубев, когда мы отошли.
— Дак я же хотел дальше сказать Федосову, как Жаров в «Секретаре райкома». Такого же ведь старикана играл? Ну, с крестом-то: «Вера — бог с ней, царь — хрен с ним, а отечество...»
— Вот и сказал.
— А если он такой боевой революционный моряк, как в «Мы из Кронштадта», что не потерпит, чтобы ему приплетали хоть бога, хоть царя? — вставил Володька-Волдырь.
— Тогда зачем, верно что, крест-то напялил? — заспорил, на моей, видно, стороне, и второй Горбунок.
— И песня у него какая-то... Сроду не слыхивал.
— Чего не слыхивал? — удивился Димка. — «Зачем ты, мать, меня роди'ла, зачем на свет ты родила'? Судьбой несчастной наградила, костюм матроса мне дала». Все старики под турахом поют.
— Н-ну... А где-когда такое бывало, чтобы презирали матросский костюм? И девки будто бы боялись? Да они только ко клёшникам и льнут, хоть у кого спроси! Вон и Васька Косой под морскую пехоту ладится...
— Да самые суки-эсэсовцы, что «Адольф Гитлер», что «Мертвая голова», рахались «черной смерти» — «полосатых дьяволов», пуще огня, так что драпали без штанов!
— А беляки в гражданскую? — оба Горбунка уже выступали за меня.
— А Федосов наверняка еще дореволюционный матрос; может, в то время песня была еще правильная? — не сдавался Димка. — Может, старик даже с самого «Потемкина»!
Читать дальше
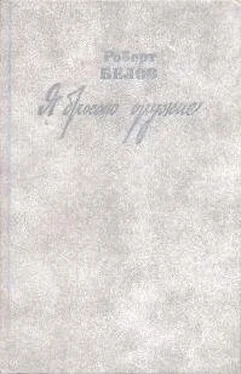
![Эдмонд Гамильтон - Звездный волк [= Оружие из прошлого, Галактическое оружие]](/books/25063/edmond-gamilton-zvezdnyj-volk-oruzhie-iz-proshlo-thumb.webp)

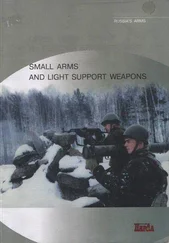

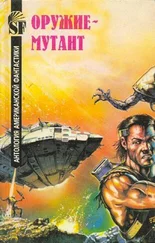

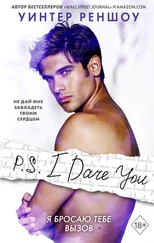

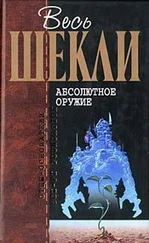
![Роберт Шекли - Абсолютное оружие (сборник) [litres]](/books/428612/robert-shekli-absolyutnoe-oruzhie-sbornik-litres-thumb.webp)