Я ничего не понимал и ничего не мог говорить, я еле сдерживал зубовную дробь и слезы, Отец или догадался, что со мной, или самому ему было не слаще моего. Он сказал:
— Ладно. Иди теперь. Когда-нибудь мы к этому разговору вернемся.
Я выбежал из кабинета, спрятался в самый укромный угол, за дверь, и разревелся, кусая губы, чтобы не было всхлипов. Плакал я недолго, но весь как-то обмяк от слез, мысли стали слабыми, покойными, щемяще грустными. Я больше ни в чем не мог, не в силах был обвинять отца, но и справедливости в его словах тоже не видел, не чувствовал. Ведь дядя Миша же погиб! Я снова стал во всем обвинять себя: наверное, если бы отец тогда на дне рождения застал не меня, а какого-нибудь другого пацана, он не рассердился бы так на дядю Мишу. Но даже и эти мысли не вызвали во мне злости ни на себя, ни на отца — я, верно, просто страшно устал от всего, от пережитого. Наконец я сходил умылся и побрел в нашу палату. Больше мне деться было некуда.
Ребята мои и Томка куда-то ушли. А раненые сгрудились возле бывшей дяди Мишиной кровати, то и дело там раздавались взрывы хохота. Бритоголовый Петрович с азартом рассказывал:
— ...Очухался — меня куда-то несут. В каком-то ящике. Ногами вперед. Ка-ак завопил: что вы, сволочи, я же живой!
Снова все грохнули.
— Вот-вот: всем-то смех, а мне-то смерть... И тут попадаю я, раб божий, после такой истории в резерв. Расквартирован наш запасной в какой-то церквушке. Там четырехэтажные нары построили — первый раз в жизни видел эдакое чудо. Церковь же не натопишь, да и вообще вроде бы не отапливалась; камень сплошной, а апрель, ночами — так холод собачий: как кто-нибудь двери расхабарит, ветрище! Рай тыловой, одним словом.
И был у нас в полку замполит, по фамилии капитан Курочкин. Ну, из запасников запасник. Маленький такой, кругленький, голосок басовитый, с прозвенью. А на гимнастерке, как на смех, ни одной колодки. Тут рядовые солдаты с полными тебе иконостасами, а войне-то ведь вот-вот конец. И очень это его беспокоило; службу правил — из кожи лез. А сам-то ходит, как на смотру, как на генеральской линейке. Ну и нашего брата гоняли там — никакого уж спасу нет: только и мечтали: скорей бы, что ли, по частям от такой от райской тыловой жизни, а то не война, верно, а херовина одна. Но молчали: известное дело, с начальством ругаться — то же самое, что против ветра ссать, брызги на тебя же.
А капитан наш Курочкин нам все политику читал, ровно как, говорят, в царской армии фельдфебели да унтера вдалбливали солдатикам какую-то словесность. А того хуже — как займется индивидуальными беседами. Замучил — не приведи господи: уставали больше, чем на тактических занятиях. И зудит, и зудит! «Вы напрасно со мной не откровенны. Старший по званию, тем более политический работник, для вас старший товарищ, вы обязаны с ним делиться всеми своими радостями и горестями». Еще любил собственноручно ночные обходы делать. «Почему не спите? Отбой дается для того, чтобы отдыхать, набираться сил». И так далее. Заведет волынку минимум на полчаса-и захочешь, так не уснешь! — ну что твоя муха. Мы уж с братвой договаривались, как команда придет, перед уходом, чтобы под трибунал не попасть: покажем, мол, ему кузькину мать, темную, что ли, устроим...
И вот однажды он заявился к нам как-то ночью. Дверь за собой, как водится, не закрыл: известное дело — начальство, сам капитан Курочкин, отставной козы барабанщик, разве он может за собой двери закрывать? У дневального чуть «летучую мышь» не задуло. И тут какой-то славянин с четвертого этажа возьми да и гаркни спросонья:
— Какая... двери располодырила? Капитан тогда ка-ак заорет:
— Па-адъем! Стррройся!
Посыпались наши братья-славяне со своих палатей кто в чем был! Психи ведь фронтовые: кто знает, может, то тревога, отбой-поход? Ладом, что никто еще не блажанул, что, мол, танки прорвались, а то бы было дело!.. Выстроились, стоим. А капитан наш Курочкин и давай нам морали читать! Что мы находимся за границей, что мы должны быть образцом воинского долга и дисциплины... В общем, ясно. Бегает вдоль строя, ручками машет и чешет, и чешет! Один наконец не выдержал — холодно ведь, иные совсем босиком, на цементе стоят! — и говорит:
— Разрешите обратиться, товарищ капитан! А что вообще-то произошло?
— Как, — кричит, — что произошло? А кто меня, капитана Курочкина... назвал?!
Тут уж мы не выдержали совсем — ка-ак зареготали! У некоторых, ей-богу, после того хохота раны пооткрывались. И пошла гулять эта притча по всей, видать, нашей Третьей армии; в случае чего кто-нибудь и рявкнет: а кто капитана Курочкина?..
Читать дальше
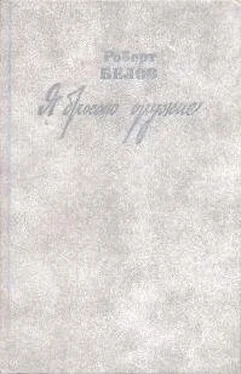
![Эдмонд Гамильтон - Звездный волк [= Оружие из прошлого, Галактическое оружие]](/books/25063/edmond-gamilton-zvezdnyj-volk-oruzhie-iz-proshlo-thumb.webp)

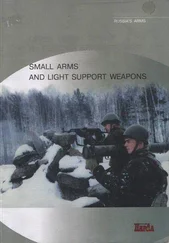

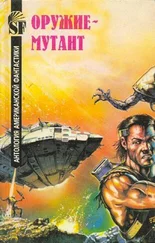

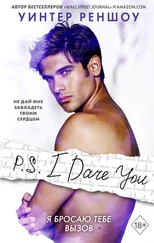

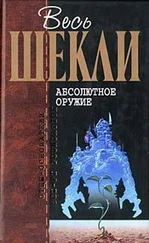
![Роберт Шекли - Абсолютное оружие (сборник) [litres]](/books/428612/robert-shekli-absolyutnoe-oruzhie-sbornik-litres-thumb.webp)