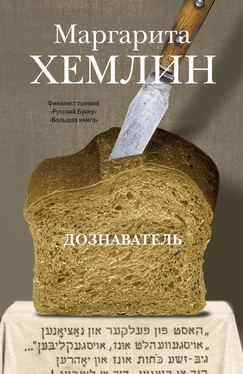Меня окликнул Петро. Самогонка у нас оставалась, надо было допить.
Детей уложили спать. Люба тоже легла.
Катерина одна пошла домой, на прощанье погладила по голове мужа.
Меня попросила:
— Як дуже напє́теся, не пускайте мого з двору. Буде усю ніч вештатися по селу. Людям заважати. Покладіть десь тут. А краще не давайте йому пити. Він не вміє.
Ушла, оставив Петра, вроде оставила неживую вещь, за которую опасалась, что ее не то чтоб украдут, но могут пристроить не на место. Ей потом шукай.
Петро выпил стопку и больше не притрагивался. Я пил добросовестно. Петро пел. Голос у него был некрасивый, не сильный. И вообще.
Ніч яка місячна, ясная, зоряна,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.
Пел и поворачивал голову и спину в сторону хаты. Я думал: «Ну что ты там углядишь, несчастный калека, „видно, хоч голки збирай“. Ну что тебе видно, что тебе видно, что ты на чужую жену бельма бесстыжие наводишь. Был бы ты зрячий, я б тебе показал „голки“».
И я сказал где-то на третьем куплете: — Хорошо поешь, Петро. Красиво. Зарабатывать не пробовал? Пел бы, а люди б давали что ни то. Ты тут, у Диденко, и столуешься харчами, на мои гроши купленными? Любочка вкусно готовит. Пробовал? Нравится?
Петро заткнулся на полуслове. Сказал как ни в чем ни бывало трезвым языком: — Я дома їм. Твоя їжа мені ні до чого. Мене з неї виверне. А співати за кусок хліба — було.
Співав. Давали. Чужі давали. Тут не дадуть. Тут нічого нікому не дадуть.
Встал и пошел, чуть, правда, неровно. Но калитку нащупал сразу.
К Любе я не притронулся. Назавтра наметил разговор. В общих чертах.
Пункты такие.
Во-первых. Что происходит между нами: между мужем, то есть мной, и женой, то есть Любой.
Во-вторых. Выбросила ли Люба из головы заразу, которую ей Довид вдолбил.
В-третьих. Больше нельзя терпеть отношения без определения.
Люба ответила на все поставленные пункты.
Она сказала, что между нами происходит нормальная жизнь. Раньше она меня любила слепо, от восхищения и моей силы. Теперь она любит спокойно и видит в прошлом некоторые недостатки и недоработки с моей стороны. Например, я сильно переменился за год. Стал нервный, уделяю ей нежность, но с нажимом, вроде Люба мне что-то должная. А она не должная. От этого и недоразумения. И переживания, не нужные никому.
Про беседу с Довидом она помнит и перебирает в уме каждую секунду. Конечно, в мозгах кое-что перепуталось в связи с тогдашним состоянием. Кое-что Люба восстановила. И в окончательном виде Довид ничего такого особенного не заявил. Кроме того, что хочет назад Ёсеньку. А про заразу, как Люба заявила, Довида научила Лаевская. От женской злости и зависти. По возрасту и так далее.
Тут я задал наводящий вопрос: почему Люба приплела сейчас Лаевскую? Лаевская нашего сына помогла выходить. Если б не она, неизвестно, как чувствовал бы себя Ёсенька в больничных руках. И даже нарочно мягко пристыдил Любу, чтоб не городила лишнего. Чтоб была выше.
Люба сказала, что Лаевская к ней в больницу приходила. И между прочим намекала, что Лилия Воробейчик, которую убили и которую я расследовал, — кое-кому не совсем чужая.
Я спросил:
— Так и сказала — «не совсем чужая»?
Люба кивнула.
— Ты не уточнила, кому не чужая? И что значит — «не совсем»?
— «Совсем», «не совсем» — какая разница? Я как через сон слышала. Под капельницей лежала. Думала, снится. Лаевская по капельке слова цедила. Она еще сидела и руку мою гладила. И Довид пришел… — Я отметил: Довид в больницу приперся, мало ему было, что своими словами Любу в больницу уложил. — Его врач гнал, а он напирал и напирал. Лаевскую в сторону отодвинул, она сползла с табуретки, он на ее место уселся. Тоже за мою руку брался. Лаевская Довиду сказала, что он опоздал, что раньше уговор был, а скоро обед и врач сменится, другой прогонит…
Я понял. У Любы все перемешалось. Лаевская с Довидом. В одну дуду пели. Довида она притащила. Специально, чтоб ее подменил, чтоб у Любы все в мыслях перетерлось: Полинины и Довида измышления. У Лаевской силы больше. Силу я чувствовал. Я силу чувствую всегда.
Ясно, Лаевская — главная. Но у нее — какой интерес?
Про заразу Люба сказала, что она сама и дорисовала на окружающих фактах и разговорах соседок. А в чистом виде — пшик.
Люба так и выговорила: «Пшик».
Слово было не ее. От Лаевской.
Она мне его однажды ласковенько прошипела:
— А вы не знаете, шановный Михаил Иванович, как это бывает? Был человек и нету. И совести нету. Никакой — ни его, ни другого кого. Один пшик остался. И даже пшик прошел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу