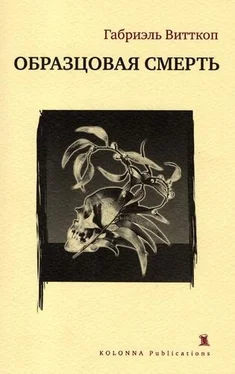Кризис продолжался еще двое суток, раскрыв в этом тщедушном теле неожиданные запасы жизненной энергии. Умирающий упорно звал какого-то Рейнольдса, исследователя Антарктики, давнего своего знакомого, которым он восхищался; вспоминал давно скончавшихся людей, призывал в свидетели воображаемых персонажей или бурно, безудержно обличал их. Он издавал нечленораздельные возгласы и вопли, что слышались от коридора до самой лестницы. Время от времени приходилось ставить на место кровать, которая под напором судорог подскакивала и ездила по всей палате. Санитары сменяли друг друга возле этого человека, который выглядел ужасающе — кукла с выпученными, готовыми вывалиться глазами, маска с искривленным ртом, перепачканным слюной и кровью. Это продолжалось до субботней ночи. К трем часам, изнуренный конвульсиям и криками, человек вдруг затих и, похоже, уснул. В пять утра он открыл глаза и, слегка склонив на плечо опухшее лицо, четко и ясно сказал:
— Прими, Господи, мою бедную душу.
И испустил дух.
В окне занималась заря октябрьского воскресенья.
У Сеймура М. Кеннета был живот. Впрочем, небольшой — чуть-чуть сальца, равномерно распределенного по дряблой брюшной мускулатуре; этакая обивка, заметная, лишь когда Сеймур был голым; жирок, прогибавшийся под пальцем, способным погрузиться в него на несколько миллиметров: словом, уступка. Стоило внимательно рассмотреть, проанализировать и вникнуть в его смысл, как живот становился признанием, скорее, отступничества, нежели разгрома. Можно было счесть его символом аморфной судьбы и бесхарактерности. Не эластичный воздушный шар веселого бедолаги, который прокусывает его своими же зубами, а бремя, медленно накапливаемое путем упущений, износа, пренебрежения жизнью, — жалкая беременность, вовсе не желательная, но при этом никогда не заканчивающаяся родами, поскольку в жизни Сеймура М. Кеннета ничто не сбывалось полностью — даже неудачи. К тому же эта непоправимая неудача соблюдала сдержанность, избегая показных мизансцен.
В Сеймуре М. Кеннете не было ничего колоритного. Он родился сорок пять лет назад в Детройте, где его мать, молодая вдова полицейского, подавившегося косточкой трески, держала небольшое захудалое кафе. Оно располагалось вдалеке от верфей и автомобильных заводов, поэтому единственными посетителями были домохозяйки, возвращавшиеся с рынка, да коммивояжеры, приходившие выпить меж двумя безуспешными встречами. Кончина матери, которой Сеймур помогал больше двадцати лет, привела его в растерянность. Он закрыл кафе и в полумраке за закрытыми ставнями, под неумолчное потрескивание радио, целыми неделями выдвигал и задвигал ящики, снимал с плечиков вискозные платья с маргаритками или маленькими ромбами либо погружался в бухгалтерские книги: их всегда вела мать, а сам он ничего в них не смыслил. На посудомоечной машине, давно уже не используемой, были сложены упаковки с моющими средствами, на этажерке стояли выщербленные стаканы вместе со старыми баночками из-под мармелада — там же покрывались пылью формочки для льда в виде обнаженных женщин. Таков был мир Сеймура М. Кеннета.
Сидя как-то вечером в своей комнате с выцветающими журнальными фотографиями Варды, он решил (возможно, это было единственное решение в его жизни, не считая того, о котором вскоре пойдет речь) — итак, он решил попытать счастья в Нью-Йорке. Но какое такое счастье, и что он под этим подразумевал?.. Быть может Сеймур представлял себе перемену жизни, в первую очередь — перемену кожи и, следовательно, некий метемпсихоз, но только радикальный и абсолютный.
В Нью-Йорке очень трудно было найти работу: невыразительный голос и рассеянные жесты Сеймура не располагали к нему людей, хотя безликая внешность и казалась залогом столь желательного конформизма. Ведь, несмотря на эту безликость, его средний рост, белокурые волосы, неопределенного оттенка глаза и очки, закругленный подбородок с ямочкой в форме ангельской попки и прямой нос, — тип, который обычно ценится высоко, — почему-то не вызывали доверия. Он не был женат и, главное, не мог опереться на какой-либо арьергард — какое-нибудь франкмасонство, религию или сообщество: для Америки и впрямь форменное безобразие. Он сделал это не нарочно — так уж сложились обстоятельства. Идеальному конформисту недостаточно быть просто моллюском, ведь конформизм требует ежедневной работы и совершенствования. Без каждодневного притока предрассудков он хиреет, а без одобрения группы и продиктованной ею морали рискует сбиться с пути. Сеймур никогда этого не понимал, поскольку никогда об этом не думал. Ему всегда хватало мамочки, лишь в ней обретал он спасение, а вечно занятая мамочка не успела привить ему собственные предрассудки.
Читать дальше