«Все у меня шло гладко, — продолжал южанин, — пока не обратили внимание, что в Париже я слишком увлекался мартиникскими танцами на Рю Бломе. С тех пор где я только не выполнял умопомрачительные миссии североамериканской дипломатии. Был консулом в бразильском порту Аракажу, в гватемальском городе Антигуа, на Кубе — в Гуантанамо, в Перу — в Мольендо, на Гаити — в Жакмеле, и даже в эквадорском порту Манте, где ежедневно, ровно в полдень, перед пляжами появляются акулы с пунктуальностью, сравнимой разве что с появлением апостолов на часах Страсбургского собора. А сейчас вот здесь — в этой мусорной яме, если можно так выразиться. И потому… знают, что я… (он посмотрел на Мажордомшу)… ладно, мы, ты и я, друг друга понимаем.
Он проиграл арпеджио. — Если бы на своей родине я показался таким, каков есть, то линчевали бы меня закапюшоненные из ку-клукс-клана, белые эти, белые не только снаружи, но и внутри — что бахвалятся особенной, очень нашей белизной, какой была белизна Бенджамина Франклина, считавшего негра за «животное, которое ест много, а работает мало», — белизной Маунт-Вернона, где рабовладелец философствовал о равенстве людей перед богом, — белизной нашего Капитолия, храма, где хором негров — подметальщиков улиц, чистильщиков обуви, чистильщиков пепельниц и сторожей в уборных исполняется гимн Gettysburg Address [353] Имеется в виду обращение президента США Авраама Линкольна после битвы при Геттисберге 1–3 июля 1863 года, в ходе Гражданской войны в Соединенных Штатах.
— «правительство народа, избранное народом и для народа», — белизной нашего просвещеннейшего, блистательнейшего дома, приводящего в движение карусель новеньких мундиров, фраков и цилиндров, которая крутится, и крутится, забрасывая в эту Латинскую Америку воров и сукиных сынов, — «не ухудшая настоящего, — как говорят испанцы, — при каждом повороте рычага»…
Я заметил консульскому агенту, что термин «сукин сын» несколько неподходящ для того, кто лишь каких-то сорок восемь часов назад был Главой свободной и суверенной Нации, которая в силу своего героического прошлого, своих великих людей, своей истории… и т. д., и т. д… «Сорвалось с языка по вине святой Инес, — ответил консульский агент, наливая мне ром. — Я не хотел вас обидеть. Кроме того…»
«Посмотрите… посмотрите…» — зловеще произнесла Мажордомша, жестом приглашая нас подойти к окошечку с разбитыми стеклами, выходившему на бухту. «Да, — сказал гринго. — Там, на whart [354] Пристань (англ.).
, что-то происходит».
Он открыл ворота для вывода на регаты ныне отсутствующие каноэ. И в самом деле, там, на молу, где обычно грузили сахар на суда, видимо, случилось что-то необычное. Толпа окружила несколько грузовиков, привезших какие-то большие предметы, поставленные на попа либо лежавшие на полу, хаос перемешанных, сваленных в кучу, в полном беспорядке громоздящихся предметов, которые… «Возьмите-ка бинокль», — предложил мне консульский агент. Я взглянул. Люди, бесспорно, подогретые спиртным из сока сахарного тростника, пели, плясали, спускали с грузовиков и под выкрики и хохот бросали в море… мои статуи, бюсты и головы — те, что годы назад по официальному распоряжению царили в колледжах, лицеях, муниципалитетах, общественных учреждениях, на площадях городков, селений, деревень, подчас соседствуя с тем или иным Лурдским гротом — грубо сделанной нишей, полной маленьких и больших свечей, всегда горящих, обителью нашей Святой Девы-путеводительницы. А ведь мои скульптуры созданы из мрамора, творения местных ваятелей либо учеников Школы изящных искусств; а бюсты из бронзы отлиты в Италии, в тех самых литейных, где родилась гигантская Республика Альдо Нардини; статуи во весь рост, во фраке, с рельефными крестами и лентой, либо в форме генерала армии (и во внушительной каске, которая, по утверждению моих врагов, имела «козырек прогресса и козырек регресса»), в одеянии доктора honoris causa Университета «Сан-Лукас» (был им еще в 1909 году), в тоге и докторской шапочке, кисть, которой ниспадала на левое плечо, либо в позе римского патриция, трибуна — вытянутой-рукой-указующего-на-что-то (некое подражание памятнику премьеру Гамбетте в Париже), в образе погруженного в раздумья отца семейства, или сурового ментора, или увенчанного лаврами древнеримского консула Цинцинната…
Теперь все они лежали на земле, их тащили на носилках, волокли в тачках и на арбах, запряженных быками, чтобы затем сбросить в воду одна за другой; действуя ломами, мужчины и женщины их подталкивали под ритмичные восклицания: «И р-раз… и дв-ва… и тр-р-р-ри-и!..» Наконец появилась конная статуя — та, которой я любовался ежедневно с балконов моего Дворца, — она лежала на железнодорожной платформе, но, оказывается, уже без всадника — в ночь моего бегства всадника сбили, лишь остался бронзовый конь. И, подхваченный краном, конь еще раз поднялся — на один момент, последний, перед тем как погрузиться в воду, в венке бурлящей пены, — героически взметнулся на дыбы, лишенный Того, кто, сидя в седле, крепко держал поводья в руках. «Memento homo…» [355] Человек, помни… (лат.).
— произнес я, не закончив всей фразы, поскольку классическое выражение тут же утонуло в нахлынувшем воспоминании о жестокой шутке, которую однажды услышал от Студента.
Читать дальше
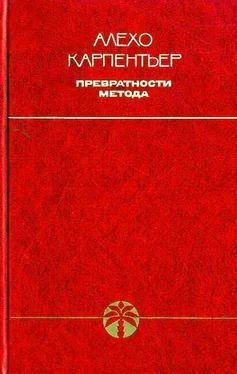
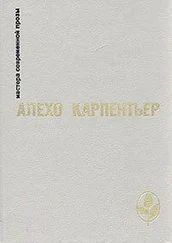
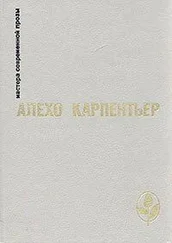

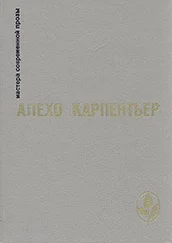
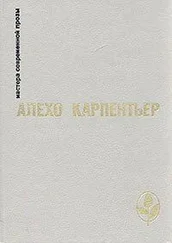

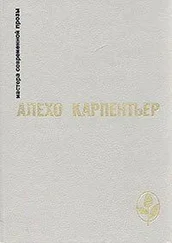
![Екатерина Беспалова - Превратности судьбы [СИ]](/books/413238/ekaterina-bespalova-prevratnosti-sudby-si-thumb.webp)

