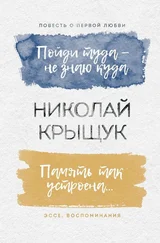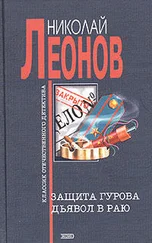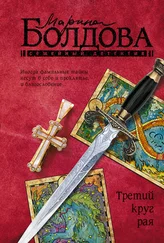– Я не о том хотел сказать, – крикнул с места Калещук.
– А я о том, – на этот раз решил проявить жесткость завкафедрой.
– И вообще, я ни о какой награде не знал», – уже совсем тихо и ни к кому не обращаясь, сказал доцент.
– Чего же тогда высунулся? – зло, но при этом по-матерински журя, прошипела Майя Васильевна. Отношениями на кафедре дорожили, и серьезные ссоры здесь не поощрялись.
Дикое выступление Калещука окончательно сбило Григория Михайловича с толку. Всем было известно, а Григорию Михайловичу особенно, что у доцента не было оснований его любить. Профессор жестко выступал на его защите, так что соотношение черных и белых шаров оказалось критическим. Будущему доценту, можно сказать, просто повезло. И вот именно он выступает теперь в защиту профессора. Правда, от кого и от чего защищал, оставалось невыясненным. Но все же мелькнувшая было мысль о заговоре вновь ожила в профессоре.
Однако факты и теперь не срастались. Сама интонация выступления как будто подтверждала наличие заговора. Вот только кому и зачем этот заговор нужен и при чем здесь сам Григорий Михайлович? Что он за утес такой? Если и мешает, то, скорее, таким, как Калещук, а этот как раз чуть ли не врукопашную за него. Потом: Калещук всегда выступает в таком кавалерийском и одновременно обиженном тоне, только и ждет вожжу под хвост. Заговоры ему мерещатся даже и посреди дня, не может вылечиться от детского глобализма. Пойти у него на поводу значило бы смалодушничать и выставить себя дураком.
И однако же настроение у Григория Михайловича стало скверное. Он и выпил в надежде, что покривившаяся гармония как-то поддернет снова узор к узору и крылатый жучок, попавший за рубашку, выползет и улетит сам. Прогнать его было невозможно, а убить, прислонившись спиной к стенке, противно, да и негуманно.
* * *
Григорий Михайлович не умел долго думать о том, в чем был привкус тайного умысла или заговора. Как только человек решил, что ему недодали: защемили, ущемили, обвели, предпочли, а также что он является героем сплетен и анекдотов, картой в чужих руках, и льстящий уже приготовил бритву, – тут конец. Не то чтобы ГМ оберегал непростительную для своего возраста невинность, но мысль в эту сторону была неплодотворна, здесь, как сказали бы его студенты, ему нечего было ловить.
Тот, кто пытался заговорить с ним о кознях злых сил в масштабе Вселенной или только маленького учреждения, переставал для него существовать. Талантливый физик не будет тратить годы на изобретение перпетуум-мобиле, он чувствует повадку природы и не пойдет в ту сторону, где она не творит и не скрывает свои тайны. Заговоры масонов и сионистов, тайное участие КГБ в организации перестройки, планы ЦРУ по развалу России – все это представлялось ему изобретениями узкого ума. По тем же причинам не читал он всякого рода инфернальных романов или политических детективов. От них разило разнузданным графоманством, трактирной мистикой и провокацией.
Он даже не мог вспомнить, в чем еще несколько минут назад видел состав происшествия. Ну, подвинули его. Курс его, говоря честно, себя изжил, вернее, переродился. Теперь его было бы правильнее назвать не «Теория биографии», а «Разочарование в биографии» или даже «Развенчание биографии». Странно, что никто этого до сих пор не заметил или, во всяком случае, не догадался сказать. Или заметили, но прикинули, что тюря с изюмом вкуснее? Замешательство было, тут он не ошибся. Однако спецкурс его давно уже надо читать где-нибудь в Центральном лектории для вступивших в общество Паркинсона, а не в университете.
Теперь действительно больше времени для книг останется, два издательства ждут по осени рукописи.
Чуть не всеми издательствами, кстати, руководили его бывшие ученики. Говоря чистосердечно, не самые талантливые. Талантливые либо пашут в провинциальных вузах, либо спились вместе с разгильдяями. Наверху оказались не таланты, но и не разгильдяи, конечно, а люди, которых принято называть толковыми. Средняя цифра, герой статистики, своего рода собирательный образ. Страна не пропадет.
Как-то незаметно отношения с жизнью у ГМ разладились. Может быть, по темпу они стали не совпадать? Она все быстрее и быстрее, а он все медленнее и медленнее. И прошлое уходит, как придуманное, даже не задирается, не обижает на прощанье.
Ему хотелось ворчать. Может быть, ворчанье освободит от того, что не дается уже никакому другому жанру? Иначе зачем оно вообще? Пусть будет такой жанр жалостливой сатиры, обращенной к небесам апелляции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу