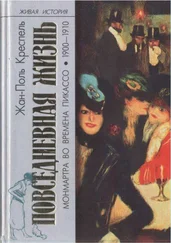Думаю, я уяснил и еще кое-что: все мы и каждый из нас живем только в искусстве. Не важно, в каком — в литературе, живописи, музыке или танце, — именно в нем мы и расцветаем, и выживаем. Чтобы прийти к этой мысли, мне понадобились многие годы.
Без страниц, написанных моим братом, я к сочинению этой летописи так и не приступил бы.
Мы, обитатели замка Вайсенштайн, не были ни слепы, ни глухи, ни глупы. Мы знали, что происходит внизу, — да и как бы могли мы не знать? Мы часто слушали выступления Гитлера по радио, а Герман с Оскаром нередко спорили, горячо и подолгу, о том, во что обратилось национальное самосознание Австрии после 1918 года. «Кто мы, если говорить точно? — спрашивал Герман. — Германо-австрийцы или австро-германцы? Сначала тирольцы и только потом австрийцы? Или просто немцы второго германского государства, созданного Версальским и Сен-Жерменским договорами?»
Оскар же, со своей стороны, оплакивал гибель Австро-Венгерской империи — ненужное, говорил он, уничтожение сложной, многоязычной, многонациональной культуры, счастливого супружеского союза Востока и Запада. На стене его кабинета висел портрет императора Франца Иосифа Г; Оскар любил напоминать мне, что пышный финал величайшей из когда-либо сочиненных симфоний — он называл так Восьмую Брукнера — был вдохновлен исторической встречей Франца Иосифа I и царя Александра III, свиданием двух историй, культур и языков, которые сам он с благодарностью наблюдает каждый день под собственной крышей, — слова, всякий раз заставлявшие Германа приподнимать брови.
Поначалу Оскар относился к Гитлеру вполне благодушно; каждого, кто обещал положить конец подобию гражданской войны — состоянию, в котором Германия пребывала последнее десятилетие, — можно было только приветствовать, а кроме того, Оскар считал, что деятельность национал-социалистов, в особенности после того, как «национал» начало вытеснять у них «социалистов», пойдет во благо и бизнесу, и морали.
Герман же с самого начала точно предрек, что Гитлер приведет Германию к краху, и все же его отношение к правлению нацистов было довольно сложным. Произведенная Германией в марте 1938-го аннексия Австрии разгневала его, однако он понимал логику собирания утраченных земель — Рейнской области, Саара, Судетской области — под эгидой Великого Рейха. Войну, когда она началась, Герман не поддержал, но и поражения Германии не жаждал. Думаю, ему очень хотелось, чтобы у замка Вайсенштайн имелась шапка-невидимка, под которой он мог бы укрываться, пока все не успокоится.
Меня же Гитлер и его движение на очень недолгий срок очаровали. Да, он был одиозен, опасен, неуравновешен и страдал помешательством, однако в декоративной стороне национал-социализма присутствовало, во всяком случае поначалу, нечто чрезвычайно стильное и влекущее, — для того чтобы понять, о чем я говорю, довольно взглянуть на ошеломляющие черно-белые плакаты, которые Гитлер использовал во время выборов 1933 года. И должен признать, увы, что мне нравилась опора его партии на молодежь, нравились плакаты, изображавшие молодых мужчин со свежими лицами, облаченных в перетянутую ремнями форму, обнимавших друг друга за плечи в знак товарищеской преданности. Если они смотрели в будущее, то и я был не прочь взглянуть на него. Все это, разумеется, переменилось, и очень быстро. И то, что представлялось неторопливым спектаклем с приятными эротическими обертонами, стало вскоре полновесным кошмаром.
К осени 1938 года брат и его семейство добрались все-таки до Парижа и поселились в убогой квартирке на рю Буало. Приезжая в город, я непременно заглядывал к ним.
Володя, как и всегда, много работал — писал новый русский роман и еще один, английский, как он мне сказал. Тем временем Митючка, мальчик несомненно умный, обращался в маленький кошмар, а не чаявшие в нем души родители не предпринимали решительно ничего для обуздания его анархической натуры.
С Верой мне тоже было нелегко; боюсь, нам так и не удалось избавиться от первоначальных подозрений насчет друг дружки. Голова ее была забита предрассудками самыми заурядными. Она полагала, похоже, что я втайне желаю стать женщиной; что мир моей души мало чем отличается от мира задержавшейся в развитии гимназистки; что моя мать любила меня чрезмерно, а отец недостаточно. И самое, быть может, обидное — Вера считала, что всех мужчин моего разряда неудержимо тянет к маленьким мальчикам. Я не забыл (и определенно не ослышался), как она жарким шепотом отчитывала Володю, как-то под вечер попросившего меня провести час с Митючкой, — Вера куда-то ушла, а брату требовалось поработать: «О чем ты только думал? Его ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять наедине с нашим сыном!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу