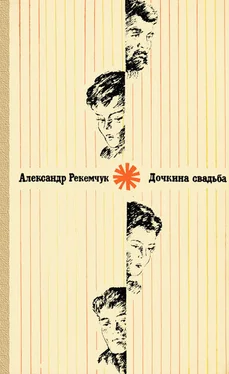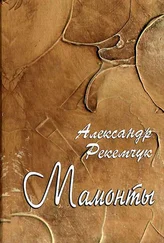— Значит, так, — стал объяснять распорядитель, — вы следуете за мной, обходите гроб по кругу. Первый останавливается в ногах слева, если смотреть отсюда, второй — слева в изголовье, третий…
— Артемий Павлович, он опять… — пожаловалась миловидная девушка, возникая подле распорядителя.
— Кто?
— Ну, этот…
— Ах, черт побери.
В комнате появился человек, при виде которого Царев невольно вздрогнул. В такой степени этот человек был похож на Зяблова. То есть, ему даже показалось, что это сам Георгий Михайлович Зяблов, вставший из гроба, — именно из гроба, поскольку он был похож не на того Зяблова, с которым встречался в жизни Царев, а на того, чье мертвое лицо он мельком увидел в гробу. Восковое, высохшее.
Человек протолкался к распорядителю, по-детски капризно вскинул подбородок, заявил:
— Вы не имеете права. Я тоже хочу… Я имею право.
Он дотронулся до красно-черной повязки на рукаве Царева.
Царев слегка вздрогнул.
— Товарищ дорогой, — умоляюще, однако непреклонно стал надвигаться на него распорядитель. — Я же вам сто раз объяснял: существует порядок. Это не полагается. Вы — родственник, и вы должны сидеть вместе с родственниками… Вы мне очень мешаете.
— А я хочу повязку, — упрямился человек с восковым лицом.
Артемий Павлович коротко переглянулся с миловидной девушкой, и она, подхватив человека под руку, новела его к двери, прочь из комнаты.
— Брат. Старший… — со вздохом объяснил распорядитель и выразительно повертел пальцем у виска. Затем посмотрел на часы, скомандовал: — Пошли.
Все обошлось без малейшей заминки. Они остановились каждый на своем месте, повернулись к гробу, а те, которых они сменили, гуськом проследовали за распорядителем.
В зале заметно прибавилось народу: подступал назначенный час гражданской панихиды. Прибавилось и венков. По краю гроба лежали букетики живых цветов. По-прежнему текла печальная, не имеющая видимого источника музыка.
Цареву повезло. Ему достался пост в почетном карауле, с которого лица покойника не было видно, а виделись только ноги — странно раскинутые ступни, покрытые алым шелком. После того мимолетного и косвенного взгляда, брошенного им при возложении венка, Дмитрий Николаевич уже сознавал, что для него было бы сущей мукой дольше смотреть на это лицо. И не потому, что он столь уж любил Зяблова и так уж его жалел.
Но с той позиции, которая ему досталась и которую он теперь не мог покинуть в течение положенного срока, именно отсюда его глазам предстала картина, может быть, еще более тягостная…
Близ гроба, рядком, сидели родные Зяблова. Царев никого из них не знал лично, они не были знакомы домами, им не доводилось встречаться. Но он сразу догадался, что вот эта, еще сравнительно молодая и красивая женщина, голова которой покрыта черным кружевным платком, та, которой вот только что медсестра, стоящая за стулом, наклонившись, дала понюхать какой-то флакончик, — что это жена. А две другие женщины, уже не первой молодости, как две капли воды похожие друг на дружку, — это дочери Зяблова. Двое мужчин позади них, положившие им на плечи руки — это, по всей вероятности, мужья. Еще дети, должно быть, внуки, и какие-то старухи, и этот, уже известный Цареву, требовавший повязку, чокнутый, — брат.
Но из всех лиц, маячивших за гробом, взгляд Царева приковывали лишь три женских лица: жены и дочерей Зяблова. Он понял, почему все три показались ему одинакового возраста, — просто эти лица были одинаково бледны и опухши от слез и бессонницы, от нашатыря и валерьянки. Они были одинаковы в своем отчаянии и неподдельном горе.
Против воли, не сумев предостеречь мысль, он вдруг представил себе на этом месте три других лица: Женьки, Наташи, Верочки…
Его пошатнуло. Он сжал кулаки, собрался, отвел взгляд. Перед глазами теперь был какой-то букетик — тюльпаны, что ли — и он сосредоточил внимание на этих тюльпанах.
Не то чтобы это был страх. Нет, не страх. Дмитрий Николаевич считался и на самом деле был человеком неробкого десятка. Он был настоящим мужчиной.
Однако всей его здоровой натуре было чуждо это. Смерть. Мысль о смерти.
Так уж счастливо сложились обстоятельства, что ему почти не доводилось встречаться с этим. На фронте он не был: его призвали в сорок пятом — и тотчас кончилась война. Родня его не отличалась многочисленностью, что и сокращало возможность подобных печальных событий. Сам он здоров, как бык, и его сорокалетний возраст покуда никак не располагал к философским размышлениям. Женька, дети — здоровы и цветущи. Мамаша держится молодцом. Отец же Дмитрия Николаевича покинул семью, когда Димка бегал в пацанах, и возникшее при этом отчуждение свело почти на нет весть о его позднейшей кончине.
Читать дальше