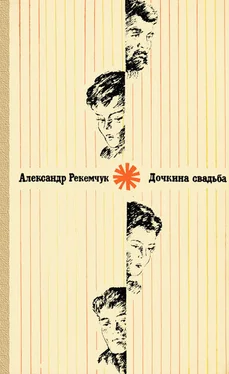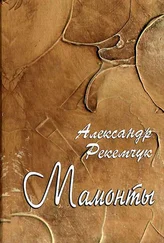Потоптавшись еще немного, он садится на тахту, задумывается. Еще дрожащей от волнения рукой поворачивает регулятор приемника.
Вот порозовел, накалился, свежей весенней зеленью налился глазок индикатора.
— …ваши часы. Третий сигнал дается в девятнадцать часов по московскому…
Савватеев резко крутнул регулятор: «Спасибо, знаю! А сеанс в шесть тридцать».
Мигнул зеленый глазок. Наплыла музыка. Кто-то задорно выстукивает на дощечках ксилофона — тим-тир-лир-лим… — будто слепой дождик скачет по солнечным лужам.
Весело. И… неуместно при сложившихся обстоятельствах. Да, брат, обстоятельства!
Тонкая струнка скользит по коротким волнам. Что-то попищало, потрещало, повыло. И вдруг:
— Алеша, Алешенька, родной! Ты слышишь? Сейчас будет говорить наш Вовка… — и шепот: — Вовочка, скажи «папа, па-па»…
Но неведомый Вовка почему-то не стал говорить «папа», а только басовито замычал и потом тонко засмеялся, будто его щекотали под мышкой.
— Алешенька, ты слышал? — снова донесся из приемника ясный, взволнованный женский голос. — Алеша, как ты себя чувствуешь? У вас холодно?.. Мы по тебе очень соскучились, но это ничего — мы встретимся. Передай привет своим товарищам… Алешенька, мы тебя очень любим… да, любим!
Такая ликующая уверенность слышалась в голосе женщины, заявляющей на весь мир — и тому одному — о своей любви, что даже Савватеев почувствовал, как к сердцу прилила волна благодарности.
Оглянувшись, он увидел, что Лена опять в комнате. Она сидела в углу, за письменным столом, что-то писала, заглядывая в книгу. Лена училась на последнем курсе техникума. Ладонью Лена прикрыла ухо: видимо, радио мешало ей сосредоточиться.
Савватеев убавил громкость. Сейчас в приемнике кто-то называл цифры и еще что-то невнятное.
Савватееву и раньше доводилось на коротких волнах случайно ловить такое. Он знал, что это радиотелефон. Им, как единственным средством связи, пользуются в тех самых глубинных районах страны, куда еще не протянули ни телеграфные, ни телефонные линии. В назначенный час на определенной волне эти «глубинки» поддерживают отношения с остальным миром. Отчитываются о работе, получают задания, разговаривают с родными.
Савватеев представил себе огонек, слабо мерцающий среди черных лесов или острых скал, погребенную в снегах палатку поисковой партии, людей в косматой одежде, сгрудившихся над передатчиком. Вот кто-то, стащив капюшон, натягивает на всклокоченную голову резиновые блюдца наушников…
В приемнике опять женский голос — но едва слышный. Савватеев еще раз оглянулся. Лена по-прежнему смотрела в тетрадь, но уже отняла ладонь от уха, и по этой нежной раковинке, насквозь просвеченной лучом настольной лампы, чувствовалось, что раковинка слушает.
Он довернул регулятор.
— Борис, Борис… Зачем ты им поверил? Ты ведь знаешь своих родителей, знаешь, как они смотрели на твою семью… Борис!..
Брови Савватеева медленно сдвинулись. Он уловил в этом новом женском голосе — грудном и скорбном — укор, боль, тупую горечь отчаяния. Так можно говорить от невыплаканных слез или после того, как они уже выплаканы все до единой.
— Послушай, Борис… — настаивая и уже утомившись настаивать, надеясь и уже теряя последнюю надежду, говорила женщина, — это неправда, Борис! Они тебя обманули, а ты поверил и уехал от нас…
Очевидно, ей отвечали, но голос, отвечавший ей, был не слышен. Вместо него текли тревожные тяжелые паузы. Савватееву захотелось выключить приемник: было неловко, будто он вошел, куда не следовало и когда не следовало, нечаянно подслушал чужую тайну, чужое горе. Но это чужое горе, короткими волнами несомое по вселенной, было человеческим горем, — нельзя просто отключиться от него поворотом регулятора!
— Борис, я знаю, что ты упрямый… Но пойми: нам очень плохо. Очень трудно… Ты ничего не хочешь выяснить. Скажи, что ты приедешь к нам, Борис…
— Закончили, гражданочка, время вышло, — внезапно перекрыл последнюю фразу другой голос — гнусавый и служебный. Тоже женский.
Савватеев вздрогнул. И в углу что-то упало. Это Лена уронила карандаш. Она уже сидела, обернувшись к приемнику, подперев висок кулаком. Странно потухшим был ее взгляд.
«Так вот оно как бывает… Как бывает…» — говорил взгляд.
А губы сказали:
— Ужинать будешь?
Савватеев кивнул головой и пошел мыть руки.
Он уже сидел за столом, уписывая за обе щеки слегка остывший рассыпчатый плов, а все прислушивался к голосу в приемнике. Слушала и Лена. Голос опять был новый и опять женский. Повелительный, не привыкший к возражениям, очень громкий: видимо, его обладательница, не очень-то доверяя коротким волнам, старалась кричать так, чтобы ее и без помощи радио обязательно услышали там — за тысячи километров.
Читать дальше