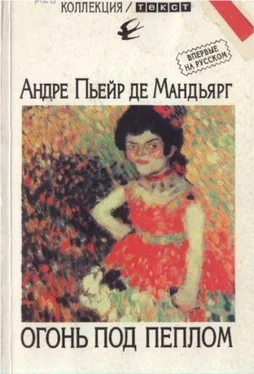Каталонец, с которым я сблизился (некий Манолино Риба, его попросту называли Маноленом), пересказал мне то, что говорили на солеварне об отшельнице и ее странной близости с рогатым исполином.
— Они едят вместе, — поделился он со мной, — и, хотя в домишке на берегу у нее есть спальня, она чаще ночует на соломе в хлеву, чем в человеческой постели. Женщина, принявшая скотину, — оскорбление для мужчины. Она несет с собой зло везде, где появится. Сколько ни насмехайся, как ни показывай рожки, бес не покидает ее, выглядывает у нее из глаз. Чтобы выгнать его оттуда, рыбьей крови недостаточно, надо с головы до ног окатить эту дрянь настоящей горячей кровью.
Несмотря на смутные толки, которым, впрочем, не слишком верил, я не упускал случая заговорить с мадемуазель Родогуной. Я нимало не пытался за ней ухаживать, и понемногу она оттаяла и, казалось, привыкла ко мне, но каталонцы, едва завидев издали меня в обществе женщины с бараном, принимались издеваться. Они шумно принюхивались или зажимали нос, как будто от меня несло стадом; они дразнили меня, блеяли, посылали к воображаемым овечкам; они наставляли на меня растопыренные пальцы, отгоняя злых духов. Манолен, если оказывался среди них, притворялся, будто со мной незнаком. Сардинцы — те молчали, рожки показывали исподтишка, но подолгу смотрели на Родогуну, и в их взглядах можно было прочесть все, что угодно, только не доброжелательность и не сочувствие.
Из любопытства, которое не делает мне чести, я хотел узнать, кто она, откуда, узнать, каким образом она оказалась на этом острове, но не смог вытянуть из нее никаких сведений, она замыкалась в грустном молчании, уходя от расспросов. Она не была злопамятной, и ее настороженность таяла, как только я переставал допытываться. Манолен, хоть с ним и откровенничали старые рабочие, поступившие на солеварни задолго до появления девицы, был осведомлен не лучше. Все, что он смог мне сказать, заключалось в следующем:
— У нее поблизости от Марселя есть родные, они ей помогают. Первого числа каждого месяца она переправляется на материк, чтобы получить почтовый перевод.
В самом деле, мадемуазель Родогуна, должно быть, не лишена была средств к существованию: я никогда не видел ее за работой, если не считать того, что она стирала свою одежду и белье, убирала в доме и в хлеву и готовила себе пищу, состоявшую главным образом из рыбы и риса с луковым соусом, плодов, молочных продуктов и меда.
Она редко позволяла убить для себя цыпленка и никогда не притрагивалась к мясу с бойни.
Со стороны наши разговоры показались бы пустыми. Однако мне самому не кажутся пошлыми те беседы, колыхавшиеся, словно паутинка от легчайшего ветерка, вместе с малейшими переменами настроения. Можно ли сказать, что ветер перебирал струны наших разговоров? Я любил их больше всего на свете и никогда не мог объясняться таким образом с собеседниками мужского пола; иногда мне удавалось это в обществе «милых прелестниц», но ни с кем я не чувствовал себя так свободно, как с Родогуной. Мы редко заговаривали о баране, разве что восхищались его красотой, и мне в голову бы не пришло заговорить о его кротости, хотя он был необыкновенно послушным. Я выказывал к нему величайшее уважение и на словах, и в своих поступках, зная, что доставляю этим удовольствие Родогуне и что обратное глубоко опечалило бы ее.
Теперь, с опозданием на три или четыре года, я открыл, что несу свою долю ответственности за развязку этой драмы. Не знаю почему, но я должен был вернуться на этот остров и, валяясь на куче тряпья, грезить наяву, пока в моем брюхе бурлит выпитое вино, чтобы понять наконец, какой ошибкой было внушить Родогуне уверенность. Уверенность в себе, доверие ко мне; доверие к небу, земле и волнам, в которые она осмеливалась зайти по колено. Недоверчивая, она прекрасно защищалась от людей, поскольку между их миром и ее собственным не было никакой связи, молчание и черные одежды укрывали ее надежнее монастырской стены. Моя вина (быть может) заключалась в том, что я нарушил это уединение и через предложенное мною примирение с одним человеком приблизил ее ко всем другим так, что она больше не могла вынести отчуждения и воинственно потребовала хоть каких-нибудь отношений, пусть даже враждебных, если дружеские невозможны.
Конечно, я должен был о ней позаботиться, должен был догадаться и предостеречь ее, когда она сказала мне, что скоро покажет им всем, кто она такая, хорошенько их проучит.
Читать дальше