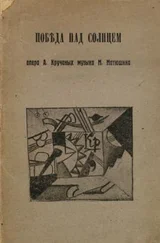Нет! Мир не только тесен, он еще и чудесен — ведь надо же было так перепутаться судьбам, самолетным трассам и узеньким тропам в джунглях, чтобы в эти первые часы третьего тысячелетия у меня в руках оказался последний привет от друга, частичка его души, неумелая летопись жизни! Все же Бог есть — ведь не может же так быть, чтобы от человека ничего не осталось здесь, на земле, кроме звонкого кусочка железа, грубого солдатского жетона! Вот и твои записи, Вовка, уж точно по Его воле отыскали меня на этом шарике, поэтому, если я в чем и не прав, публикуя их такими, какими получил, не взыщи — тебе оттуда, от престола Всевышнего, конечно, виднее.
И знаешь, я почему-то не сомневаюсь, что ты — там. Ведь суд Его — не наш, и мы не знаем, как будет судить Господь всех нас и это наше страшное время.
…Решил начать записывать кое-что для себя. Как-то впервые стало страшно. А зацепиться не за что.
Случилось это вчера, по прилете в Абиджан. Городишко так себе, ни разу до этого не был в Африке, но так себе и представлял: пыль, жара и много негров. Удивило, что влажность большая. Поначалу даже дышать трудно, и, самое странное, жара от этого тяжелее, как-то облипает всего сразу, все равно как если в нашу парилку заскочить в мокрой одежде…
Нас тридцать человек — со всего света. Почти полурота, по прилету — сразу в автобус, датчанин Аксель рванулся было к аэропорту прикупить себе джина, но его без дальних разговоров схватили и втолкнули в автобус. Вообще, сопровождающие с нами не цацкаются, оно и правильно, попробуй довези весь этот сброд до места назначения, да еще незаметно. Вот ведь и мне с ними жить и воевать! Одно греет — получу камушки, и пошли все они!
Наших тут трое, хотя какие они «наши» — два хохла, бывшие УНА-УНСО, и один казах, да я, всего, значит, четверо. По-английски никто толком не шарит, вот и держимся вместе. Даже «незалежники» по-русски заговорили. Подумать только — лет пять-шесть назад в Абхазии они в меня, я в них стреляли, а теперь вместе, подстрелят кого, так еще тащить на себе придется. Хотя со мной они, думаю, нянчиться не будут, случись что, пристрелят, и всего-то делов. Еще и камушки к рукам приберут…
Странно, я их еще и в глаза не видел, а уже боюсь потерять. Какие они, камушки?
…Сейчас перечитал написанное — плохой из меня писатель, забыл, с чего и начинал… Нет, не камушки и не подельники мои испугали меня по прилету.
Нас тогда сразу в гостиницу отвезли, по номерам расселили — по двое в номер, ну, само собой, салоеды — эти вместе, а ко мне Замир (казах наш) прибился. И вот тут-то мы оторвались. Впервые после Парижа. Накачались джином, только что из ушей не льется, и у Замира что-то переклинило, он и пристал ко мне: кто ты да кто ты? А он бывший капитан Советской, между прочим, армии, а я лишь сержант… и к тому же Российской. Но дело не в этом — вот тут-то мне и стало страшно, потому что ничего о себе и сказать-то не могу. И даже не это страшно, а что не помню ничего — все слилось в какую-то одну сплошную черноту. Попробовал подсчитать, сколько воюю, и не смог. Накатил я тогда еще один стакан джина, послал капитана — коротышка он, а не капитан — и рухнул на кровать. А заснуть не могу, и сознание такое четкое, ясное, как перед боем. Слышу, уже и сосед мой захрапел во все свои тощенькие степные легкие, а у меня аж в глазах режет — уставился в одну точку и смотрю. Главное, и повернуться не могу, тело не слушается, как у контуженого. И так жутко, как никогда раньше не было: лежу как в гробу, ни рукой пошевелить, ни ногой. А вместо мыслей — один вопрос: что — всё? И только слышно: кондиционер шумит да хохлы в другом конце коридора поют.
И так мне обидно стало, что ничего я этому узкоглазому ответить не смог — ведь было, было. И девки, каких он у себя в степи и не видел, и крутые кабаки, и на тачке по ночной Москве… А сколько парней похоронил! Да сейчас хотя бы одного из них сюда, хотя бы Мишку, мы бы всех этих козлов построили!
В общем, пролежал я так до утра, провспоминал — как оно все начиналось. И слово себе дал: буду записывать — для себя. Утром книжку вот эту на ресепшене купил, пять баксов, бешеные, кстати, здесь деньги.
…Вот так до тридцати лет дожил, воевал, дважды ранен был, а только здесь, в этой долбаной Африке, понял, что такое страшно. Это когда уже джин не берет и темнота вокруг.
* * *
Проснулся Замир, полез было ко мне с расспросами — послал его. Он меня боится, вша тыловая, всю жизнь в своей Караганде прозаведовал хозчастью, понесло его воевать на старости. Рассказывал мне: шурин его, брат жены, бывший секретарь горкома, а теперь аким — местный князек, совсем зачморил его, вместе с женой его и чморили, ты, мол, не казах, ты с севера, а они — южане, настоящие казахи. Военный, говорят, так и иди воюй!
Читать дальше