Их взгляды встретились.
— Ты понимаешь меня, Альфред? Понимаешь, о чем я? Да, он все понял. В своей поэме он написал: «Тебя любил я, Дух, люблю. Шекспир сильней любить не мог бы», — и это была истина.
Он сел на кровать и вновь взялся возиться с пуговицами, пытаясь правильно застегнуть рубашку. Ноги мерзли и покрылись мурашками; ему было знобко в ночной рубашке, он дрожал. Собственное тело внушало ему страх и жалость, словно он — какой-нибудь туповатый вол, обреченный на убой, словно крупный, лукавоглазый кабанчик — он похрюкивает, не подозревая, что спустя миг лезвие взрежет его необъятную глотку. Когда он был моложе и смерть Артура была свежа в памяти, каждая клетка его тела кричала о неестественности такого исчезновения. Теперь, состарившись, он понял, что это было от юношеской веры в свое бессмертие, в то, что его полуденная сила никогда не иссякнет, что рука и поступь всегда будут твердыми и уверенными, а дыхание легким — теперь же каждое движение давалось с трудом. Он шагал к небытию (короткому, верил он), и с каждым шагом его тело требовало большей заботы, и он уже привык смотреть на него как на самостоятельное живое существо. И с каждым шагом все сильнее становился страх, что он просто сгинет, как животное. В юности они пели в церкви о своей вере в воскресение тела и жизнь вечную. «Наверное, было время, — думал он, — когда все христиане, не сомневаясь, ликуя, верили в то, что при звуке последней трубы их тела возродятся из частиц праха, осколков костей, истлевших волос, но сейчас люди в это не верят, и им страшно». Как-то в юности он гулял по Лондону, и его пронзила мысль, едва не повергшая его без чувств наземь: через сто лет все до одного жители этого огромного города будут лежать в могиле. Теперь люди видели то же, что видел он: земля нашпигована мертвечиной: обломками ярких перьев, обугленными мотыльками, разорванными, искромсанными, изжеванными червями, косяками некогда сверкающих, а ныне зловонных рыб, чучелами попугаев, тигровыми шкурами, вяло скалящимися у очага, горами человеческих черепов вперемешку с черепами обезьян и змей, ослиными челюстями и крыльями бабочек — все перемешивалось, обращалось в перегной и пыль, пожиралось, отрыгивалось, носилось по ветру, мокло под дождем, становилось частью чужой плоти. Такой была явь, такой была «кровавозубая» природа — все только пыль и прах; но люди верили в другой мир, говорили, что верят, пытались поверить. Ведь, не будь у них веры, какой же смысл во всем, чего стоили бы жизнь, любовь, добродетель? Дорогую Эмили ужасало, что он смеет сомневаться. В поэме он отдал должное неколебимости ее веры:
Ты говоришь (но без презренья),
Ты, чьи глаза исходят мукой
Над тонущей в кувшине мухой:
«Сомненье — дьяволово семя».
Он восхищался тем, как Артур боролся с сомнением:
Умолк певец. Он чист был, верь,
Пусть знал сомненье в полной мере:
В сомненье честном больше веры,
Чем в миллионе ложных вер.
Не жалость, другое чувство мучило его самого при виде тонущей мухи. Вот живая муха, вот она бьется и жужжит — и вот она уже мертва. У мухи есть тело, и в теле жизнь, она кружит вдоль кромки кувшина, жужжит — и вот она ничто. Неужели то же случилось с Артуром, из которого жизнь ключом била? Если бы он мог предвидеть смерть друга, ясно представить себе его телесную смерть, он не сумел бы любить его, они не смогли бы друг друга любить. Это убеждение родилось не в его мыслях, а под пером. В отличие от Артура он не был мыслителем. Если бы от убедительного доказательства зависела самая его жизнь, и тогда он не сумел бы ничего доказать. Он не умел выдвигать аргументы, не умел защитить своей точки зрения. В кружке «апостолов» он не блистал яркими идеями; он украшал камин, отпуская робкие шутки, читал стихи и внимал панегирикам в честь своего великого дарования, которое, кажется, лишь отчасти можно считать его собственным. Но он разобрался в любви и в смерти, в этих безжалостных абстракциях, пока писал поэму; избрав для нее лженаивную форму, незамысловатую, простенькую песню-плач, на ощупь постигая себя и мир — мысль текла за мыслью, чувство сменялось чувством, рифма догоняла рифму, начиналась новая строфа, и медленно, но верно он шел к прозрению. От абстрактной персонифицированной Любви он добрался до голой животной чувственности:
И если некто мне шепнет:
«Нас время сушит и сгибает,
А Смерть останки забирает.
Надежда ж в прахе не живет»,
Читать дальше

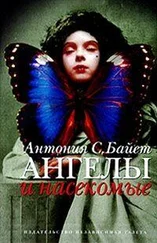
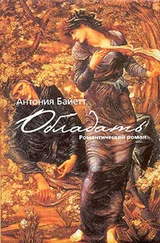

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
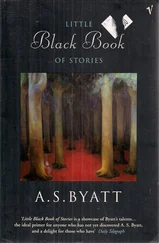
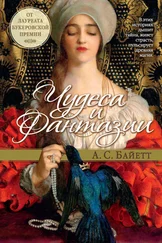

![Антония Байетт - Дева в саду [litres]](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-thumb.webp)
![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)