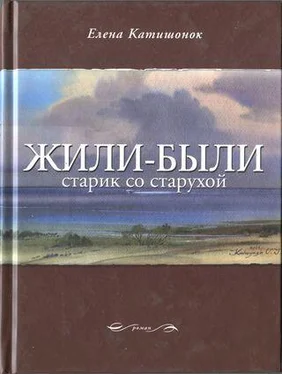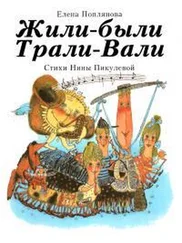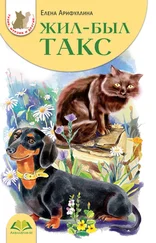— Доктор, — спохватился Феденька, — мне, право, неудобно затруднять вас…
— О, то бздуры, — поляк укоризненно покачал блестящей лысиной, уже набирая номер и трубкой прижимая разворот книжечки.
Деликатный Феденька к разговору не прислушивался, но тихо восхищался интонацией Ранцевича: заботливой, чуткой, почти интимной. «Целую ручки!» — весело закончил доктор и положил трубку. Заметив Федино смущение, громко протянул:
— Ну что-о-о вы, Федор Федорович, — и счел необходимым пояснить: — Я с этой дамой на конференции познакомился, в буфете. Там и телефон записал. Случайно выяснилось, что она как раз прима-балерина в стоматологии, в нашей туббольнице. Это ж козырная карта! — Понюхал мундштук и задумался. — Холера ясная, я же убей не помню, как она выглядит… Прикус неправильный, так; и серьги желтенькие… — Но тут же вновь разгладил лицо: — Так что? Имя-фамилия есть; найдем. Данные о вашем папеньке я сообщил; стоматологи там не перегружены — вот пусть и встанет на охотничью тропу.
— Как бы его в Евр… в Третью больницу перевести, — заикнулся Феденька.
Пан Ранцевич потянулся за мундштуком.
— Вы правильно назвали, Федор Федорович, — серьезно произнес поляк. — Эта больница была — и будет, помяните мое слово, — еврейской, хотя бы потому, что там профессор… — назвал фамилию, хрустнув воображаемым орешком, — есть. Не надо бояться слова; а номер можно дать любой, это проформа. Кстати, мне эта, — глянул в книжечку, захлопнул, — курица от стоматологии хорошую мысль подала. Ни в одном стационаре нет таких возможностей, как в туберкулезной. По инициативе этой… шановной пани ему сделают любые снимки, понимаете? Еврейская может только мечтать о таком оборудовании. Я уже не говорю об анализах: все сделают cito. Затем вашего папеньку вместе со свежим анамнезом переведем в придворную больницу. Ну как, згода?
Федор Федорович восхищенно притакнул.
— А за это, — многозначительно продолжал доктор, — я приглашаю вас в ресторанчик. Это по пути, скоро за мостом. Никакого шика, но кухня отличная. Традиция, так уж повелось.
— Когда повелось? — изумился Феденька.
— От Адама, — просиял Адам Ранцевич.
Федя в голос рассмеялся, едва ли не в первый раз за последнее время.
— Доктор, — сказал он, вытирая платком лоб, — я вам очень благодарен, но мы непременно должны зайти ко мне. Теща места себе не находит.
— Тещу я беру на себя, — согласился тот.
И — взял.
Пока шел ритуал знакомства, старухины брови были многообещающе напряжены, но пан Ранцевич сочувственно выслушал рассказ об острой корке и кивал с таким пониманием, что Матренино лицо разгладилось, а когда она веско изрекла, что корка «шкоду сделала», доктор восхитился и даже про мундштук забыл. И вот здесь уместно заметить, что роли их поменялись: теперь мамынька взяла поляка на себя. И сделала это очень просто:
— Ведь вы прямо с работы, не евши?..
Даже непонятно было, кто двигался резвей, мать или Тоня. Пан Ранцевич, поняв, что вкусного ресторанчика сегодня не предвидится, сдался на волю хозяйки и присел к фортепьяно. Когда вбежала Тата, он встал и поклонился; девочка зарумянилась, и доктор задал какой-то вопрос, наклонив голову к плечу, а через пять минут они уже играли в четыре руки мазурку под звон столового серебра.
Склонившись над бульоном, Федор Федорович изумлялся, как быстро один человек сумел не только расположить к себе целый дом, но и, что совсем уже необъяснимо, внести если не покой, то присутствие духа.
— Тещу вы свою недооцениваете, — говорил поляк уже в таксомоторе, — не так уж она не права. Язва там или не язва, а поцарапать пищевод и спровоцировать кровотечение могла и корка. Вот на это и будем пока надеяться. Эх, Зильбермана нет, вот клиницист был!..
* * *
Говорить запретили строго-настрого, смешно даже: будто было с кем. Пришел доктор, очень толстый. Кила, наверно, посочувствовал старик. От доктора шел запах дорогого табака, но сейчас и табак был противен. Толстый начал задавать вопросы и объяснил, как отвечать рукой: если «да», опустите ладонь; если «нет», вот так подвигайте. Вроде как «сдачи не надо», понял Максимыч. «Разговор» вышел неинтересным и, главное, непонятным. Выходило, что у него чахотка? Старик несколько раз делал «сдачи не надо», но толстый продолжал спрашивать и писал. Да что я, как глумой какой, рассердился Максимыч, язык-то у меня на что, Мать Честная?!
Сказал, к негодованию доктора, про давнишнюю язву и что лечился в Еврейской больнице, неподалеку от дома. Подумав, добавил, что профессор знает, мол, про язву.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу