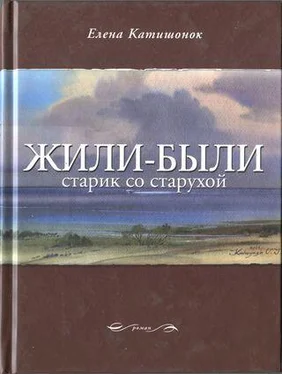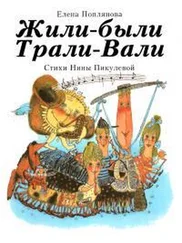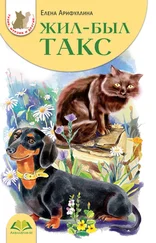15
Посылку для Левочки собрали на славу. Максимыч придирчиво осмотрел шаткий, занозистый фанерный ящик. Экое паскудство; постукал молотком, укрепляя углы; вздохнул. Ира дописывала письмо, макая ручку в чернила и задумываясь, прежде чем поставить точку. Из комнаты пришла Лелька, обеими руками держа рисунок.
— Ты что за чуперадлу намалевала? — остановила ее Матрена.
— Это не чучело, — насупилась девочка, — это я кошку дяде Леве нарисовала.
— А кто ее царапал, кошку твою? — продолжала старуха.
— Никто. Это у нее полоски.
— Красные и синие полоски? Какая ж это кошка, это царский флаг. Бывало, как праздник, всегда молебен большой; ну и флаги вешали… как твоя чуперадла.
Лелька положила листок на стул и стала доводить кошку до совершенства, по очереди слюнявя то один конец карандаша «Победа», то другой. Кошка хорошела на глазах. Если слово «молебен» говорить много раз, будет очень похоже, как в моленной звонят. А флаг — красный! «Правда, бабушка Ира?» — «Правда, — улыбнулась та, — давай свое поздравление».
Может быть, Федор Федорович и верно сказал о запахе Апокалипсиса: на Лелькином рисунке тощая красно-бело-полосатая бестия, держа у бока красное знамя, шла прямо по неровным буквам «ЗДНЁМ АНЬГЕЛА».
На дно положили поздравление от крестных в отдельном конверте и несколько баночек икры. Старуха упаковала кое-что из Мартиной корзины и несколько носовых платков с собственноручно вышитой монограммой. Что приготовила для сына Ира, никто не знал; просто достала из шкафа сверток и переложила в ящик.
— Все, что ли, — засомневалась мамынька.
— Ну да, — отозвался старик, — а икру он как исть будет?
— С хлебом, — припечатала Матрена, — как еще.
— Хоть с хлебом, хоть с молитвой. Банку-то чем открывать, пальцем?
Это был звездный час Максимыча. Он вытащил из кармана свой складной ножик, быстро и привычно отогнул твердым ногтем все, что было отгибаемо, и, защелкивая обратно десертную ложку, произнес с торжеством:
— Можно и без хлеба. — Дыхнув, потер о рукав и протянул дочери: — Заверни в мягкое, чтоб не стучал. Пусть будет память от деда.
…Ножик ему подарил Фридрих. Таким же движением достал из кармана и вложил прямо в оторопевшую руку, игнорируя возмущенное «на кой», — бросить нож Максимыч не мог. Фридрих произнес только: «Золинген», будто это объясняло подарок. Ножик был не новый: судя по тому, что Фридрих с ним не расставался, можно было сообразить, что пленных в той, первой, войне обыскивали кое-как. Деревянная рукоятка была твердости и гладкости безукоризненной, а все лезвия внук и так помнил с закрытыми глазами. То-то ему радость будет, старик чуть подкрутил усы, да и потерять не потеряет, там особое колечко есть, на конце рукоятки…
Он так сладко задумался, к чему можно прикрепить ножик, что едва не пропустил свою очередь. На почте пронзительно и тоскливо пахло сургучом и влажной фанерой; люди, обступив высокие, неудобные столы и ссутулив плечи, поминутно тюкали в чернильницы казенными перьями, будто птицы клювами постукивали. Почтарь макал лучинку в железную бадейку, где пыхтел горячий сургуч, тянул длинную шоколадную соплю, шлепал на ящик; затем бережно припечатывал штампом. Молодой ведь мужик, недоумевал старик, наблюдая, как тот угрюмо пялится в бланки, записывает что-то в толстую книгу, потом опять ворожит с сургучом. Чтоб ему поближе банку поставить: ишь, тянет, чисто нитки мотает, а тяжелые ящики у него бабы ворочают. Правильно люди говорят: ума палата, да не почата.
На улице Ира начала высчитывать, дойдет ли к пятому марта. Сошлись, что на все Господня воля, и она заторопилась на работу.
Старик шел пешком, втайне надеясь нагулять аппетит. Конечно, не евши, так и немудрено, что с трудом ящик донес; хорошо, дочка не заметила. Мимо прошла цыганка, зацепила его взглядом, но сама же и усмехнулась: не клиент. Он тоже улыбнулся и даже потянулся к усам, но машинально; кого-то эта цыганка напоминала, что-то недавнее. Максимыч посмотрел назад, но люди, выходящие из трамвая, заслонили ее, и он увидел только мелькнувший и скрывшийся яркий платок. Да больше и не надо было.
Свой сон, подсказанный и заданный тем первым блином на масленицу, он вспомнил сразу. Папаша приехал откуда-то и привез матери в подарок платок: огромный, с тяжелыми кистями, в ярких цветах. Но вот уж отца не видно, а мать сидит и плетет косу, и маленький Гришка старается поймать в зеркале ее взгляд. «То ты», — произносит она наконец и целует его в голову, потом отстраняет и начинает распускать только что заплетенные волосы. Черные волнистые пряди покрывают всю спину, а она берет новый платок и повязывает, но не на голову, как обыкновенно, а на плечи; укутывается им и требовательно смотрит в зеркало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу