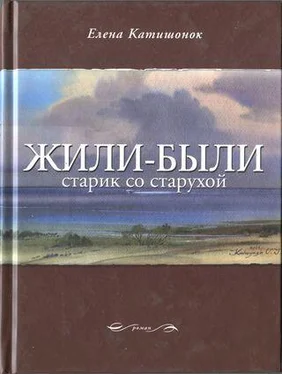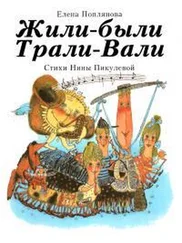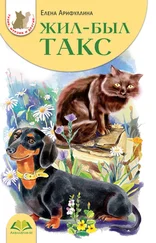Так еще одно имя было вписано в поминальный список старухи — имя первого отнятого войной. Имя же Феденьки должно быть занесено в какой-то особый список тех, кто не побоялся по своей воле пойти на свиданье со смертью. Такого списка, однако, у старухи не было, хоть и молится она за здравие раба Божия Феодора, который уснул сейчас тяжелым сном, и снится ему Коля. Он склоняется над списком и говорит негромко, что он — был, был и ждал его, а потом был экстерминирован, но прежде-то был!.. Глаз швагер не поднимает и продолжает чужим уже голосом, что выдать одежду экстерминированного не представляется возможным. От этого чужого голоса сон прерывается, и тихонько, стараясь не разбудить жену, доктор пьет сельтерскую, чтобы не думать про одежду, а значит, думая.
Может быть, рассказчику не следовало бы описывать все так подробно, а предыдущие несколько страниц и вовсе вычеркнуть? Дескать, если жили-были старик со старухой, то и сосредоточиться нужно именно на их жизни, и незачем так пристально концентрироваться на зятьях. Но, во-первых, имеет смысл доверять интуиции автора, ибо он — лицо ведомое, он не сочиняет, он просто идет за ниткой разматывающегося клубка; во-вторых… Впрочем, всегда хватает «во-первых»: проверено, и не раз. Невозможно зятя Феденьку, старухиного доброго ангела, упомянуть походя — только потому, что зять. Особенно сейчас, когда мамынька, проводив всех сыновей на войну, обратила на зятя любовь и тепло, предназначавшиеся им. Было еще что-то, что она не могла даже в молитве высказать, какое-то суеверное чувство: пока жив и здоров Федя, то и с ними ничего худого не случится. Он, в свою очередь, слово «мамаша» произносил с особой теплотой, потому что сиротство — оно ведь никогда не забывается, даром что своих уже двое. Вот и получилось, что тихий сутулый младший зять стал главой семьи, еще полгода назад такой внушительной, а теперь развеянной по фронтам и эвакуациям; и не тяготился этим.
6
Октябрь уж наступил, когда овдовела, сама еще об этом не ведая, старшая дочь старика. А еще раньше, летом, сам он, уронив винтовку на дно, упал на берег и врос щекой в жесткий сухой песок. Старуха же молилась за здравие его, не за упокой; и была права.
Не песок оказался жестким, а его собственная отросшая щетина. Песок же, напротив, был гладким и таким белым, что больше походил на подушку. Так это и есть подушка, удивился старик. Недоверчиво ощупал обеими — целыми — руками узкую подрагивающую койку и хотел сесть, но пронзительная боль швырнула его обратно. «Отвоевался, отец, — говорил врач, заканчивая перевязку, — болеть будет долго. Смотри, не вставай, а то кость неправильно срастется. Ты чего в воду-то полез?..»
Максимыч рассказал, как начали обстреливать пароход, как занялась палуба и как он поплыл, а винтовка утопла.
Н-да. Шестьдесят три года, на год старше папы, прикинул врач. Как, с осколком в бедре, старик мог добраться до берега? Это ж какое сердце надо иметь! На дезертира не похож: тот бы документы утопил прежде винтовки, не говоря о форме… Вода его и спасла — ни песка, ни грязи в ране практически не было. Сколько он пролежал? О том, что больше никого на берегу не нашли, врач не сказал, да и мысли его приняли совсем другое направление: от родителей, торопливо отправленных в эвакуацию, вести не приходили, а своей семьи у доктора не было. Он сдернул грязный халат и с ненужным раздражением велел сестре принести новый.
От-т работа, Мать Честная, уважительно изумлялся старик, следя за манипуляциями доктора. Чисто за верстаком стоит. Молодой, совсем как наш Андрюша. Тоже ведь семья, небось, дома… или где-то, как у наших.
Санитарный эшелон двигался быстро, с короткими и нечастыми остановками. Лежать прямо, как велел доктор, было неудобно, но всякая попытка переменить положение прошибала резкой болью, и Максимыч смирился. Раз сказано, что отвоевался, значит, отпустят домой; скорей бы. Раненые называли его «дед» и удивлялись, когда он отказывался от махорки. Получая от усталой конопатенькой худышки свою миску с пшенкой, он спросил, когда ж поезд-то приедет? Скоро, дедуль: до Омска и остановок не будет.
И вправду не было. В самом же Омске остановка была неожиданно короткой из-за какого-то карантина, и поезд дернулся, словно рыгнув, когда отходил от перрона, к великой обиде юного, на вид младше Симочки, долговязого солдата с разрывной раной плеча: у него в Омске жили родители. Парню почему-то выйти не разрешили, и снова у Максимыча в голове начало клубиться это безнадежное «на кой». Вытащить мальца из Сибири, чтобы загнать под Смоленск, где он и окоп-то по своему росту выкопать не успел, хорошо, жив остался… О том, где и в каких окопах вжимаются с молитвой в холодный песок его сыновья, он мучительно старался не думать. На кой…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу