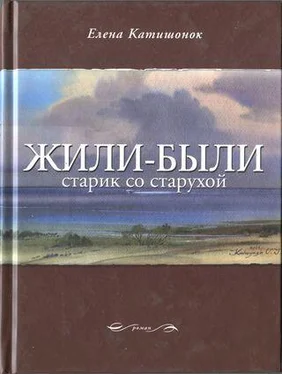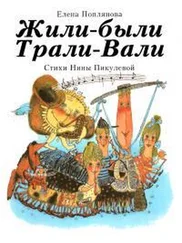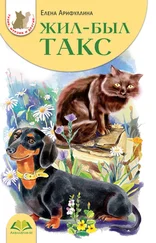Самовар не ставила — что ж одной-то. Налила воды в трумуль Максимыча, который отличался от ее собственного крохотной вмятиной в боку. От того, что на плите стоял его чайник, она почувствовала себя немного уверенней. Чай отправилась пить в комнату: здесь стул Максимыча был плотно придвинут к столу, и Матрена не могла ни отодвинуть его, ни перестать смотреть в ту сторону.
Что ж так тихо? Ну да, Надькино радио не играет. Внуки в школе, а ребенок остался у Тони.
— Так и надо, — громко произнесла она вслух, — кто ж тут будет цацкаться с ним.
Сказала — и поймала Ирин взгляд. Дочь смотрела прямо на старуху с большой фотографии в овальной деревянной раме. Снимок заказал Максимыч на дочкино восемнадцатилетие. Старуха — в который раз! — поразилась, насколько Ира была похожа на нее в молодости.
— Одно лицо, — опять сказала она громко, — одно лицо.
Портрет обладал странной особенностью: казалось, девушка улыбается, а между тем на лице улыбки не было. Как фотографу удалось такого добиться, уму непостижимо. То ли улыбка притаилась в уголках рта, то ли жила в глазах, спокойных и чуть лукавых, и значит, ничего такого особенного добиваться и не пришлось, но ясно одно: улыбка была, хоть ее и не было. Недоверчивым рассказчик советует обратиться к портрету Моны Лизы, чья улыбка вызывает целый взрыв эмоций на протяжении нескольких веков. В отличие от Джоконды (какое все-таки змеиное имя для женщины!) Ира на портрете улыбалась без улыбки; так чья загадка сложней?..
Матрена перевела взгляд на детский стульчик, такой сегодня пустой и маленький. Квартирная тишина не нарушалась ни Лелькиным топаньем, ни шелестом страниц, ни тихим сопеньем над рисунком, которое иногда прерывалось покаянным зовом: «Бабушка Матрена, у меня сопельки текут!»
Бережно подобрала со скатерти крошки и перекрестилась. Хватит рассиживаться. Она привычно собрала нехитрый реквизит: черный кожаный ридикюль, потертостью изображающий замшевый, такой же потертый кошелек, хранящий за отвисшими щечками трамвайную мелочь и несколько бумажных купюр, сложенных фантиком, носовой платок, ключи… Где ключи? Вот ключи, где ж им быть. И — отдернула руку: это были ключи мужа. Дура старая, выругала себя Матрена, ну так что ж, что его? И возьму!
Странная мысль, виноватая и вороватая, промелькнула мышью: не простил, а ключи оставил — точно позволил остаться жить. Она подержала их в ладони: ярко-желтый, латунный, и второй, потоньше и построже, стальной. Первый долгое время был единственным: наружную дверь не запирали. Это уже потом, после войны, когда в доме завелась, по выражению мамыньки, «всякая шваль да голытьба», пришлось поставить замок на дверь с табличкой. И с тех пор оба ключа, желтый и серый, обрученные надежным колечком, весело позванивали то в кармане, то в ридикюле, то в таинственном, неожиданном месте «где-мои-ключи?!».
А сколько раз пытались содрать с двери табличку, горько вспоминала Матрена, сворачивая на Садовниковскую и минуя богадельню, шумную и кишащую народом, давно из тихой богадельни превращенную в детскую поликлинику, сколько раз сдирали! — и хоть бы хны: держится, как заговоренная.
Старуха нарочно не пошла привычным коротким путем мимо кладбища: туда — на обратном пути. Трамвая долго не было, и Матрена, сердясь и раздражаясь от нетерпения, торопила себе навстречу уличные повороты, горбатый булыжник, а тут еще переходить надо; ну да уже скоро.
У Тони, однако же, выяснилось, что можно было не торопиться. Как?! — А вот так.
— Сейчас туда нельзя, не пустят к ней, — терпеливо объясняла дочь, — ты ж сама видела, какая она, — и быстро обернулась на Лельку.
Крестница, впрочем, была слишком занята: сидя на корточках под пианино, она давила обеими руками на блестящие желтые педали и взрослым разговором ничуть не интересовалась.
— Разве ж Федя не может сделать, чтобы… — недовольным голосом начала старуха, но Тоня ее перебила.
— Что ж вы хотите, — возмущенно заговорила она, обращаясь к матери, но в то же время включая ее в неведомый коллектив, обозначив его общим и безликим «вы», — что ж вы хотите, чтобы Федор Федорович бросил институт? Чтобы мы все положили зубы на полку? Чтобы Федор Федорович поминутно кричал «караул», а кусок хлеба ему чужой дядя будет зарабатывать, этого вы хотите?..
Тоня так распалилась, что не заметила даже, как Лелька, оставив педали, завороженно ждала, не вылезая из-под пианино, как крестная и бабушка Матрена будут складывать на полку зубы. Наверно, в буфет, за стекло, к тем маленьким чашечкам — из них все равно никто не пьет, но играть с ними почему-то не дают. Чашечки золотые — и зубы золотые; очень красиво получится, и гости смогут любоваться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу