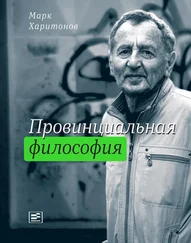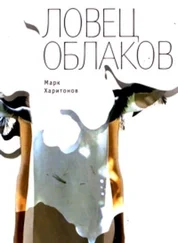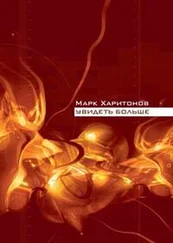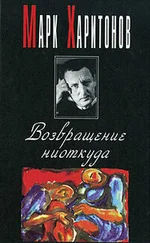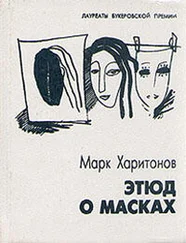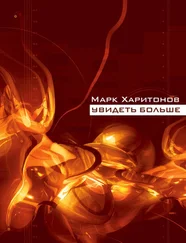Всего он привез из Москвы четыре такие квитанции.
Все они оказались аккуратно подколоты скрепкой вместе с командировочным удостоверением, проездными билетами и прочими подотчетными документами, что доставило принимавшему их бухгалтеру минуту недоумения и веселья, а Прохора Ильича заставило стукнуть себя кулаком по лбу с досады на свою феноменальную рассеянность.
Вернулись они домой к началу школьных занятий. На одном из первых уроков учительница истории предложила Зое рассказать классу о своих московских впечатлениях — не так уж часто жителям Нечайска удавалось попадать в столицу. Зоя сперва говорила вяло, но постепенно разошлась, стала рассказывать про мотоциклистов, которые в Москве могут ездить по стенам, про одинаковые дома с одинаковыми комнатами, где можно жить по очереди: сегодня в одном доме, завтра в другом, про лифты, которые при подъеме и спуске задевают специальные колокольчики, отзванивая мелодию, особую для каждого этажа — восходящую при подъеме и нисходящую при спуске, — и про то, что из кранов там льется такая горячая вода, что от прикосновения к ней загорается бумага… «Ты что нас, за дурачков считаешь?» — оборвала ее наконец под общий смех учительница, и изо рта ее вылетел ворох шипящих сухих углей. Зоя пожала плечами и со свойственной ей вольной неучтивостью отказалась от дальнейших объяснений, получив в дневнике замечание о попытке сорвать урок.
Это была первая сердитая запись в Зоином дневнике; за ней последовала череда других. Переход в пятый класс дался ей со скрипом. Если до сих пор по всем предметам у нее была одна учительница, которая успела за четыре года привыкнуть к ее повадке диковато-сонного зверька и в глазах которой невнимательность на одном уроке уравновешивалась интересом к другому, то теперь каждый требовал почтения именно к своему предмету. Особенно экспансивен бывал преподаватель английского — редкостный учитель, рыцарь своего предмета, тот самый, что прочел когда-то по-английски название заозерной деревушки на латунном кольце. По-русски он говорил даже с небольшим акцентом и испытывал затруднения в выборе слов; чтобы восполнить недостаток в отечественных пособиях, он много лет трудился над переводом знаменитого синонимического словаря Уэбстера. Его приводило буквально в отчаяние, когда Меньшутина некоторые слова не то что не могла запомнить — просто не принимала. Что «сауэ» означает «кислый», с этим она охотно соглашалась, и даже рот ее на переходе гласных кривился, как от лимона; но что и «тат» (с долгим «а») примерно того же вкуса — это у нее не укладывалось. «Что тут кислого?» — пожимала она плечами (а класс, естественно, опять веселился). Для добрейшего Семена Сергеевича это было хуже личного оскорбления. Его запись в дневнике Меньшутиной было воплем уязвленного в лучших чувствах человека и побудила наконец Зоину классную руководительницу Светлану Леонидовну пригласить в школу для собеседования ее отца.
Так Прохор Ильич познакомился с этой славной женщиной.
Светлана Леонидовна приехала в Нечайск из Ленинграда после окончания педагогического института и не имела намерения оставаться здесь более положенных трех лет. У нее были свои дальние планы, она училась в заочной аспирантуре, замуж пока не собиралась, тем более в Нечайске, — вообще чувствовала себя здесь человеком временным, на летние, а при возможности и на зимние каникулы уезжала домой и бестрепетно отклоняла всякие попытки ухаживания. Когда она, высокая, статная, в красной синтетической шубке и черных чулках — по моде, преждевременной для Нечайска, — в белом пуховом платке на светлых волосах, уложенных независимо от всякой моды тяжелой короной, проходила от дома шофера Пилипчука, где квартировала, к школе или вечером к клубу, парни, стоявшие кучками перед началом сеанса, поворачивали вслед головы, неуверенно погогатывали, и кто-нибудь восклицал: «Мать моя была женщина!» — с ощущением своеобразной озадаченности, которую следовало бы выразить совсем иными словами. В гоготании этом звучала, пожалуй, досада на ее недоступность; всем своим видом и всей повадкой Светлана Леонидовна делала надежды заранее праздными. На танцы не ходила, только иногда в кино, по вечерам больше бывала дома; в семье Пилипчука ее любили за скромность. Конечно, в нее были влюблены некоторые ученики, и не только старшеклассники, но и семиклашки, — так это не в счет. Что и говорить, эта женщина создана была не для жизни в Нечайске.
Читать дальше