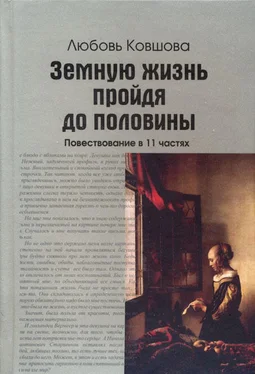Однако Маринка Ципенкова оказалась там и даже обрадовалась мне. Ее соседка уходила, и Маринке не с кем было встречать Новый год.
Ах, эта Маринкина соседка! Черная шапочка волос, только из парикмахерской, черные ресницы и подведенные стрелки глаз, влитой костюмчик глубокого зеленого цвета, самого любимого мной, тоненький капрон и туфли на немыслимых шпильках.
Она крутилась у зеркала и капризно препиралась с верзилами-старшекурсниками, которые ждали ее. Было видно, что они оба по уши в нее влюблены, и она прекрасно это знает.
Наконец они уговорили свою ненаглядную Танюшу накинуть шубку, чтоб не простыть до соседнего корпуса, и мы с Маринкой остались одни.
И теперь на вагонной полке, укутав голову своим еще школьным пальтишком, из которого давным-давно выросла, я давилась неостановимым рыданием, вспоминая вчерашнее.
Почему капризной Тане и Москва, отторгавшая меня, и МИФИ, что так сладко снится по ночам и куда из-за какого-то детского порока сердца меня никогда не примут, и невесомая шубка, бережно наброшенная ей на плечи парнями? Почему одним все, другим — ничего? Разве я в чем-то виновата?
И еще мучило грустное и доброе, как у деревенских лошадей, лицо Маринки и ее слова: «Как встретишь Новый год, так он и пройдет».
И казалось, что метель за окном добавляет, что теперь так будет всегда.
Прошло два года, ровно, день в день.
И было маленькое московское кафе «Дружба» напротив ЦУМа. Морозные узоры на его стеклах отгораживали посетителей от многолюдного даже в первый январский день Кузнецкого моста.
Почему-то оно постоянно было пустовато, особенно за дальней от входа аркой. Здесь хорошо праздновались в дружеской компании дни рождения или в одиночку пережидался дождь, когда за окнами шуршали по лужам машины и вдоль улицы плыли цветастые, мокрые зонты.
Сегодня улица была не видна, но и к лучшему: ничего не отвлекало и можно было всласть наговориться с Толиком Черкасовым, умницей с четвертого курса и моим большим другом.
В зальчике за аркой кроме нас отмечали Новый год только трое парней. Один в рыжеватой бороденке все порывался спеть, делал вид, что держит гитару, ударял пальцами по несуществующим струнам и затягивал мягким баском:
…Разукрасила зима
Елками новогодними
Высотные дома…
Товарищ опускал ему на плечо тяжелую ладонь, просил:
— Погоди, Славка, потом…
Парень послушно замолкал. Двое продолжали увлеченно о чем-то спорить, пока рыжеватого Славку опять не разбирала потребность поведать миру про новогодние елки.
Но ни парни, ни танцевальная музыка из транзистора за стойкой не мешали. Пузрилось шампанское, подступало к глазам и туманило все вокруг. Огоньки небольшой елки, приткнутой нашим столиком в угол, сливались в дрожащую цепочку.
Удивительно хорошо и надежно было рядом с Толиком, почти как с отцом. Они даже внешне были схожи: оба из породы русских мужиков, некрупных, но ладно скроенных и крепко сбитых, в которых и на расстоянии ощущалась уверенность и сила. А может, и не порода вкладывала в них эту силу, а сама жизнь, где и тому и другому пришлось хлебнуть всякого. Моему отцу — свое, Толику — свое.
Девушка за стойкой покрутила ручку транзистора, и тоскующий баритон запел про ночную метель за окном и потерянное счастье. Но грустно не стало.
Сведя от старания густые, черные брови, Толик фигурно взрезл апельсин, чтоб получилось две розочки, входящие друг в друга, и походил на мальчишку, готового удивить мир.
Обычно он таким не был, взрослый, серьезный человек, и тогда имя Толик ему не шло. Оно, конечно, тянулось за ним с детства, где был седьмым, младшеньким в семье. По его рассказам легко было представить пыльный казахский поселок, где бежит за матерью смуглый пятилетний малыш, не понимающий, почему все радуются, а мама плачет.
Это День Победы 45-го года. Матери Толика тридцать один, она осталась вдовой в первый год войны с зарплатой технички в поселковой школе и кучей ребятишек, которых каждый день надо кормить.
Мать Толик вспоминает с благодарностью и уважением. Она умерла год назад, подняв всех семерых на ноги. Конечно, всемерно помогали и государство, и школа, и поселковый Совет, и просто знакомые люди, но главное-то было в ней, так и оставшейся до конца вдовой солдата.
Однако все это из прежних разговоров. Сейчас им не место, не время, не настроение. И мы говорим о любви.
Хоть не называется имени, я давно знаю, по ком уже четвертый год сохнет Толик. Она его однокурсница, и прошедший август я жила с ней в одной палатке, когда сразу после поступления в МИФИ нас послали на отработку в Зеленоградский стройотряд. Лиза Кораблина — Лиса. Самая обаятельная из девчонок стройотряда. Я понимаю Толика: она нравится всем, она вся будто огонек тепла и света. Но не понимаю Лису — никто из поклонников не любит ее так верно, мучительно, безнадежно. Неужели ж такая любовь не тронет сердце?..
Читать дальше