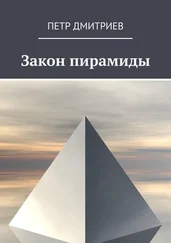Алексей Макушинский - У пирамиды
Здесь есть возможность читать онлайн «Алексей Макушинский - У пирамиды» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2011, ISBN: 2011, Издательство: Новый хронограф, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:У пирамиды
- Автор:
- Издательство:Новый хронограф
- Жанр:
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94881-161-1
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
У пирамиды: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «У пирамиды»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Издается в авторской редакции.
У пирамиды — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «У пирамиды», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Того больше — когда во второй половине века деятели, по крайней мере на Западе, да по-своему, уж как сумели, и в России тоже, опомнились, извлекли уроки из ужасов первой его половины, перестали посылать своих граждан в лагеря и в окопы, но вместо этого занялись построением более или менее сносной, свободной и человеческой жизни (в России не очень свободной и не очень гуманной, конечно, но ведь не сравнимой же все-таки с предшествовавшим ей адом) — идеологи не опомнились вовсе, «магистральная линия» мысли осталась прежней, голос разума звучал в стороне от нее.
Почему это все случилось? Потому что разум перестал быть Божественным Разумом.
Как это вообще могло случиться? Как мог такой век случиться? Как угораздило человечество забрести — в такой век? Вопросы, на которые вряд ли кто-то когда-то даст окончательный ответ. Но все-таки, все-таки… Ответим так: двадцатый век (начавшийся в девятнадцатом, а то и раньше) был веком бунтующим. Двадцатый век и был (подростковым, мальчишеским, бессмысленным и беспощадным) бунтом против естественного (или, для тех, кто верит, Божественного) порядка вещей. Бунт против порядка вещей — вот формула двадцатого века. Общество? Общество никуда не годится. Смести его к чертям собачьим, на свалку истории, на его месте, товарищи, мы построим, неужели ж не построим? конечно, построим наш новый прекрасный мир. Вот тогда заживем… История? История отменяется, история была предысторией, вот сейчас начнется настоящая история, История с большой буквы. Человек? Ну, о человеке и говорить не приходится, человек это ошибка природы, подавайте нам «нового человека», прекрасного человека, стальные руки-крылья, белокурую бестию. Да и сама природа какая-то, прямо скажем, неправильная, мы ее всю переделаем, оросим пустыни, осушим болота, скрестим яблоко с грушей. Искусство? Искусство должно быть совсем другое, это уж ясно, искусство должно преображать мир, быть «теургией», соборным действом, коллективным психозом, служить народу, прославлять арийскую расу. Язык? Отменить его. Заменить на эсперанто или на заумь, на «крылышкуя золотописьмом» и «смеёво, смеёво». Вот тогда будет здорово, вот тут-то «председатель земного шара» и покажет всем, где раки зимуют. А если не удастся создать мир новый, прекрасный, наш, так попробуем хоть разломать этот старый, чужой и взрослый, как-нибудь его, к примеру, поджечь — с «мировым пожаром в крови» что ж еще и делать-то? — как-нибудь, что ли, взорвать. Не получилось и это? Не унывайте, друзья, товарищи, соратники в борьбе с живой жизнью. Не удалось уничтожить, сжечь, взорвать, погубить, так можно ведь, на худой конец, посмеяться, можно хоть высмеять, надругаться и поглумиться, изувечить иронией, раскурочить насмешкой, поездить по миру с буддистскими, якобы, завываниями на слова этого, как его, Пушкина, «унизить высокое, оплевать дорогое».
Злосчастный век сей заканчивался как фарс («постмодернизм» и проч.) Закончился ли, наконец? Этого мы не знаем.
Закончился он или нет, ему — пора заканчиваться, злосчастному этому веку. Не сказать ли, что пора заканчивать — его, кончать — с ним? Ведь мы — выжили, мы, вот в этом 2008 году живущие на земле, двадцатый век пережили, ну и — Бог с ним. «Пора заканчивать злосчастный этот век…» Пора заканчивать этот век, пора уходить из-под власти его оценок, от обаяния его кумиров. Он создал свой пантеон, в котором нам нечего делать. Другие, дальние, времена снимаются со своих мест и подходят к нам вплотную. Их голоса нам нужнее, их истины для грядущего плодотворней.
II
«Титаник» и «океан»
О «стихии», о Блоке, о «музыке»… 5 апреля 1912 года Блок записывает в дневнике: «Гибель Titanic'а, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело». На «Титанике» погибло примерно полторы тысячи человек. Большинство из них, не попавшее в спасательные шлюпки, прыгнуло за борт и замерзло в ледяной воде (температура которой в районе катастрофы была минус два градуса, при температуре воздуха минус три). Между тем, спасательные шлюпки — их было мало, оборудованы они были плохо и управлять ими почти никто не умел — уходили полупустыми, командиры их сначала боялись попасть в образовавшийся водоворот, затем боялись приближаться к месту катастрофы, понимая, что десятки обезумевших рук сразу же ухватятся за борт и что шлюпки почти наверняка перевернутся; командиры эти стояли, следовательно, перед самым страшным выбором в своей жизни — спасти тех, кто уже сидел в шлюпках, или, рискуя их и своей жизнью, попытаться спасти хотя бы еще немногих. Почти все выбрали первое; удаляясь от места катастрофы, многие из спасенных еще долго слышали крики замерзающих, тонущих, обреченных людей. Есть еще океан… «Титаник» погиб в ночь с 14 на 15 апреля по грегорианскому, то есть в ночь с 1 на 2 апреля по юлианскому календарю. Почему Блок узнал о катастрофе (и «несказанно» обрадовался ей) только 4 («вчера»), непонятно, но в конце концов и неважно. Важно, что этот «океан» и есть, конечно, все та же «стихия», та же «музыка», готовая, при случае, превратиться в пресловутую «музыку революции», унесшую в своих «вихрях» поболее полутора тысяч несчастных, ни в чем не повинных, захлебнувшихся «в волнах истории». Несказанно, видите ли — несказанно обрадовала его эта гибель. «Сначала с милой пили чай, потом несказанное». Или наоборот — сначала несказанное, потом чай? Все равно. Поражает вообще вот что. Поражает, что все предпосылки были уже в наличии, задолго до того, как кошмар начался, причем предпосылки как идеологические, так и, что, может быть, не менее важно, эмоциональные, душевные. В том прекрасном мире, в Серебряном веке, в Belle Epoque они все уже продумали и прочувствовали. В том мире, о которым мы можем только мечтать, да и мечтать-то не можем, они сидят себе, значит, и думают, как бы его разрушить, сидят и готовят предпосылки его гибели, предпосылки мыслительные и душевные. Грехопаденье происходит, как известно, не после, но еще до изгнания из рая. Грехопаденье происходит в раю. Хьюстон Стюарт Чемберлен, например, уже в 1896 году пишет свои «Основания девятнадцатого века», «классический труд» европейского антисемитизма, где «идейный фундамент» Холокоста уже заложен; автор, между прочим убежденный вагнерианец, муж падчерицы Рихарда Вагнера, Евы, в десятые годы фактический глава Байрейтского клана, вел весьма любопытную переписку с германским императором Вильгельмом Вторым, очевидно ему верившим, во всяком случае принимавшим его бредовые идеи об «арийской расе», о евреях, которые ее «разлагают» и т. д., вполне всерьез. (Впоследствии Гитлер, посетивший его в 23-м году — Чемберлен умер в 27-м — получил от него как бы личное благословение на дальнейшие подвиги в деле спасения германской нации от еврейской заразы). Точно так же верил в юдофобский бред и другой император, дальний родственник и будущий враг этого, Николай, тоже Второй (в письмах они называли друг друга не иначе, как «Вилли» и «Никки»), до самой своей страшной смерти хранивший у себя, среди немногих прочих пожитков, экземпляр «Протоколов сионских мудрецов», покровительствовавший «Союзу русского народа» (который правительство втайне финансировало), во время «дела Бейлиса» при личной аудиенции подаривший судье золотые часы и посуливший ему повышение по службе, если процесс будет «выигран» правительством (беру эти примеры из замечательной книги английского историка Орландо Файджеса, Orlando Figes, о русской революции, «Трагедия одного народа»), «В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови» (все тот же Блок, предисловие к «Возмездию», все о том же, разумеется, «деле»). Это мог бы написать Геббельс. Да так примерно они и писали. Возник вопрос… Окончательное решение которого будет затем испробовано в Освенциме. Что ж говорить об идеологии «левой», подготавливавшейся в течение всего 19 века? «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Горький, по свидетельству Ходасевича, обожал «маньяков-поджигателей» и был сам «немножечко поджигатель». «Любимой и повседневной его привычкой, пишет Ходасевич, было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих — а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти „семейные пожарчики“, как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение». Любил он также и порассуждать о разложении атома, продолжает Ходасевич, но — «скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце концов прибавить, уже задорно и весело, что „в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!“ И он прищелкивал языком». Пожарчик, что говорить, удался на славу, костерчик получился не символический. Вот эта, гм, да, понимаете, мечта об «уничтожении нашей вселенной», эта «злая и радостная» жажда «пожарчика», эта готовность к гибели, своей и чужой, — без них бы ни гибели, ни уничтожения, ни «пожарчика», разумеется, не было. «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», писал Брюсов еще в 1905 году. Думал ли то, что писал? Думал ли вообще что-нибудь, когда писал этот высокопарный вздор? Или просто играл словами — как в жизни играл душами и людьми? Эти игры, ни те, ни другие, ни третьи, даром никогда не проходят. Они и ему самому не прошли, разумеется, даром (в чем можно при желании увидеть и некую справедливость). Замечательны там призывы «грядущим гуннам» «сложить книги кострами» и «творить мерзость во храме»; «гунны» эти, видите ли, какую бы мерзость ни творили, все равно «неповинны, как дети».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «У пирамиды»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «У пирамиды» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «У пирамиды» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
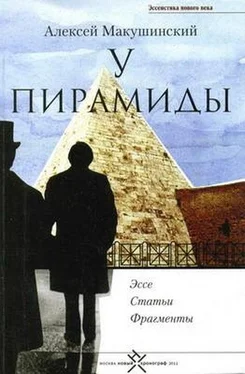







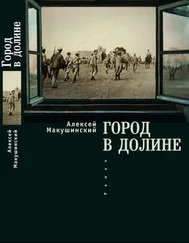
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)