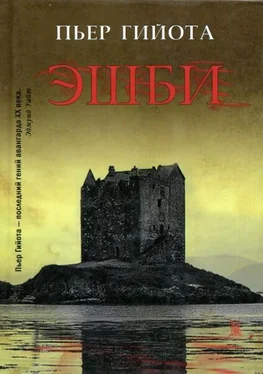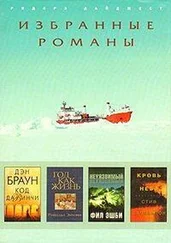— Что с тобой? — спросил я ласково. — Что с тобой?
— Вода была как шелк, и этот затылок, эти бедра, такие нежные, рядом… его плечи блестели над водой, словно покрытые чешуйками… Моя голова закружилось, сердце сжалось… Ангус, умоляю тебя, уедем… Он меня убивает… Солнце не согреет меня, не растопит лед у меня в груди… я умираю от холода…
Дональбайн обернул бедра полотенцем и переоделся. Из долины доносилось конское ржание. Небо потемнело, серебристая ладонь ветра скользнула по запруде. Друзилла поднялась, слегка постанывая. Я не был опечален. Я не испытывал ни гнева, ни ревности, ни отвращения… Она хотела утопиться, думал я, она любит Дональбайна и может покончить с собой…
— Ты сошла с ума, — сказал я тихо, — любить ребенка, пытаться из-за него покончить с собой…
Она посмотрела на меня; ее глаза, щеки, лоб, губы блестели на изможденном лице, как умирающие отблески солнечного праздника. Она смотрела на меня, не говоря ни слова; ее привычное лицо теперь уплывало от меня, как объятый пламенем айсберг. Я обнял ее за плечи, она улыбнулась, как больной ребенок.
— Оставь меня, — сказала она, — все в порядке, обещаю тебе, я больше никогда…
Стаи птиц садились на сосны, насекомые прятались под листьями, вдоль стеблей или в своих норах из земли и веток. Друзилла дрожала, я помог ей переодеться. Дональбайн открыл дверь автомобиля. Друзилла села на заднее сиденье. После запаха солнца и ила запах бензина и нагретой кожи обжигал ноздри. Мы ехали между живыми изгородями из дрока и бузины. После каждого поворота Дональбайн оборачивался к Друзилле: «Ну как? Ничего?» Я видел в зеркальце, как она улыбается, нежно опустив глаза. Мы ехали по черным посеребренным полям. Друзилла за моей спиной дрожала от отчаяния. Дональбайн справа от меня грезил о чем-то, сложив ладони между ног. Солнечный пунктир блестит на его влажных волосах, капелька воды сползает от виска по щеке.
На следующий день мы покинули Брамар. Перед самым отъездом Дональбайн заставил нас прослушать кантату О Ewiges Feuer. Мы уехали под эту героическую колыбельную. Дональбайн умел убеждать. Это был двойственный человек, одновременно сентиментальный и бесчестный, доверчивый и изворотливый, чудаковатый и прижимистый. Он боялся людей, которым не мог ничего сказать, они сочли бы его несостоявшимся и напыщенным. В других его восхищали черты, которых он не находил у себя, даже если и был наделен ими с рождения. Через других он постигал себя. Иногда даже собственное обаяние ему приходилось подделывать, даже врожденную грацию имитировать. Он принадлежал к тому разряду людей, которые развлекаются, любя и страдая от любви. Он верил в Бога как в принцип и источник жизни, но сомневался в естественных правах. Он презирал самодовольство во всех его видах. Гордыня его была непомерна, он изо всех сил старался ее скрыть, сражался с нею, в то же время страдая оттого, что в чем-то отдает первенство другим.
Он верил только тем, кто дарует жизнь, и боялся тех, кто ее отнимает. Ужасная война, которую он вел сознательно, переполняла его ненавистью к солдатам и презрением к тем, кто над ними насмехается.
Он предпочитал ложь кривлянию, скрытность буффонаде. В схватке он старался убедить соперника в своей злонамеренности. Он всегда держал наготове презрительную улыбку, чтобы предвидеть и разрушать ситуации, в которых он мог бы показаться смешным. В разговоре он мог быть либо впереди, либо сзади вас, и никогда — на одной линии. Он не утруждал себя ничем, кроме преследования своей мечты, своих снов. Если он не успевал с ответом, назавтра он давал почувствовать, что вовсе не считает себя побежденным, что умолчал сознательно, по заранее продуманному плану.
Он страстно жаждал материнской опеки, эта жажда заставляла его разорвать круг молчания и привычной бесстрастности и искать у других ласки и лести, которыми сам уже давно вознаградил себя.
Он горячо любил свою мать, но гордыня — следствие этой любви и видимого несоответствия любви ответной — была в нем настолько выше самого чувства, что первым проявлением его души после подслушанного разговора или прочтенного письма, в которых его мать отдавала ему предпочтение перед другими детьми, было тщеславие.
Он тут же присваивал все, что услышал, увидел или прочувствовал, но то, что касалось смерти, было ему чуждо. Деревня успокаивала его душу, убаюкивала сердце, город вселял в него тоску и удалял от Бога.
В жизни он следовал не вкусам, а инстинктам. Ему всегда не хватало уверенности в себе, кроме тех случаев, когда ее требовалось совсем немного. Он подходил к вещам, событиям, людям, вдыхал их запах — и этим ограничивалось его познание мира. Иногда им овладевало страстное желание святости — очевидно, в эти минуты он уставал от самого себя.
Читать дальше