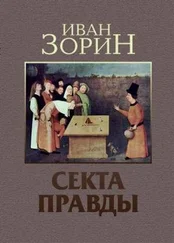Еремей Гордюжа был нелюдим, а в ответ на приветствие двумя пальцами приподнимал за поля шляпу. Он учился тому, что ненавидел, и ходил на работу, от которой тошнило. У его начальника были лисьи глазки, а сигарета, как фига, торчала в рогатке из пальцев. От его окриков закладывало уши, а у подчинённых сжимались кулаки. Однако Еремей Гордюжа — тряпка. Он всю жизнь просидел на чемоданах, так и не решив, куда ехать, и косые взгляды казались ему страшнее смерти.
Продать. Освободиться раз и навсегда! Но кому? В юности Гордюжа всюду был своим парнем, но постепенно зеркала, окружавшие его жизнь, опустели, а дорога всё сильнее сопротивлялась ногам. И Еремей Дементьевич превратился в затворника. Днём — служба, вечером — телевизор. Оставалось продать героин себе. Но у Гордюжи не было денег, чтобы купить. А высыпать порошок в умывальник он не решился.
Много лет он был женат. «Странно не то, что разошлись, — вспоминал он холодную улыбку жены, — странно, что столько прожили». Женщины думают о деньгах. Говорят о деньгах. И меряют всё на деньги. А своим единственным недостатком считают отсутствие недостатков. Им ничего не докажешь. Они знают всё. И это всё — деньги.
Вот что Еремей Гордюжа вынес из семейной жизни.
Когда родился сын, он надеялся. Его кровь, а кровь — не водица. Но, подрастая, сын принимал сторону матери. «Эдипов комплекс, — шипел Еремей Гордюжа, — Эдипов комплекс!» Жили под одной крышей, но Гордюжа — сам по себе. «Перекрестятся — и дальше пойдут», — запершись в ванной, представлял он, как умрёт, развязав всем руки. Когда вместе с бульканьем воды доносилось бормотанье, ему настойчиво стучали.
В семь лет мальчики думают: «Папа знает всё!», в тринадцать понимают: «Отец многого не знает», в восемнадцать уверены: «Отец не знает ничего!», в двадцать пять смеются: «Старик спятил!», а в сорок плачут: «Жаль, отца нет — поговорить не с кем». Гордюжа скрёб лысину и не хотел ждать. Чтобы не дождаться. Почесав затылок, он пересел в другой поезд.
После развода пришлось тяжело. Раньше он был одинок, как булыжник на площади, а теперь − как тропинка в лесу. Сбрасывая одеяло, он вскакивал ночами, разбуженный собственным криком. А самым страшным из кошмаров была бессонница в тёмной, наглухо зашторенной комнате. И ему всё чаще снился его покойный отец. Он был сгорблен и старше тех лет, когда умер, будто продолжал где-то стареть. Отец молча грозил пальцем и укоризненно хмурился, словно ожидая от сына чего-то, что тот не мог дать. И Гордюжа до тех пор гадал, чего же он хочет, пока, измученный, не просыпался. Найдя героин, он трясся над ним, как скупой рыцарь, а на душе было, как в желудке − пусто и темно. Был выходной, столкнувшись со своим одиночеством, Гордюжа скулил, как брошенный пёс, бродя по квартире, неизменно застывал около целлофанового пакета, который взвешивал на руке, а потом снова клал на стол. Долго так продолжаться не могло, и к вечеру он не выдержал, неловко просыпая, размешал порошок в воде, мелко перекрестился и запрокинул стакан к потолку. Так началась вторая жизнь Еремея Гордюжи. И в этой жизни больше не стало взглядов, которые он ловил на улице и которые казались ему страшнее смерти, не стало начальника с лисьими глазками и сигаретой, торчавшей, как фига, в рогатке из пальцев, всё, бывшее с ним раньше, отошло на второй план. Зимним тяжёлым вечером Гордюжа ссутулился, продевая руки в рукава висящего пальто, а потом, уже надетое, снял с вешалки. Вернулся он с чужим, деревянным лицом, держа подмышкой коробку со шприцами. Благодаря наркотику он нащупал в себе лестницу, по которой изо дня в день спускался теперь в тёмный подвал, полный соблазнов и ужасов. Наконец он понял, что болен самим собой, а если исцелится — умрёт, что путь к себе короток, а если удлиняется — значит, даётся крюк. Растянувшись в так и не зашитом кресле, он думал: раз этот героин его освободил — значит, был тот , который превращал в Еремея Гордюжу. Он испытывал глубокое отвращение к Еремею Гордюже, ему были противны указатели, приведшие к нему: школьная долбёжка, факультет житейских наук и ежедневные инъекции того героина, который назначают против воли. И теперь, видя в зеркале черневшие под глазами круги, он думал, что вывернул, наконец, жизнь, как пиджак, который носил наизнанку. И ему, также как Молчаливой и Ираклию Голубень, не давал покоя инвалид из третьего подъезда. Однако, в отличие от них, сверявших по нему, как по часам, свою безысходность, Гордюжа, глядя на него, радовался, что нашёл выход. «Отсыпать ему? — думал он, проходя мимо инвалидной коляски. — Дают же обезболивающее». Гордюжа взвешивал мешочек, с которым не расставался, нося за пазухой, и чувствовал себя Богом, раздающим счастье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу