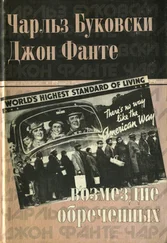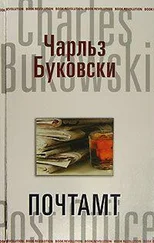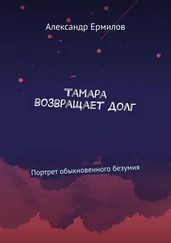так или иначе, как говорится, старикашка в очках и болтающемся коричневом пальто выбегает с большой банкой зеленой краски, никак не меньше галлона, а то и пяти, не знаю, что все это значит, я окончательно потерял и сюжетную нить, и цель этого рассказа, если они вообще когда-нибудь были, короче, старик выплескивает краску на ненормального в белой футболке, описывающего круги по Делонгпре-авеню в робком свете голливудской луны, причем большая часть льется мимо, а кое-что и попадает в цель, главным образом туда, где раньше было сердце, неотразимый удар зеленым по белому, и происходит это быстро, так быстро, как вообще все происходит, едва ли не быстрее, чем успевают отреагировать глаза или пульс, вот почему у вас складываются столь различные мнения о любом поступке — о бесчинствах, о начале драки, о чем угодно, глаза и душа не поспевают за ДЕЙСТВИЯМИ разъяренного зверя, но я увидел, как старик опустился на землю, упал, кажется, до этого был удар, но я знаю, что после этого удара не было, женщина в машине перестала гудеть и таранить пикап, теперь она просто сидела и орала благим матом, испуская вопль абсолютной высоты, который имел тот же смысл, что и непрерывное давление на гудок, она умерла и была навеки погребена в машине шестьдесят девятого года, но не могла этого уразуметь, она попалась на крючок и была добита, выброшена за борт, и неким чувством, еще копошившимся в остатках ее души, она это осознавала — никто не лишается души целиком, душа высасывается только на девяносто девять процентов.
белая футболка нанес старику сильный второй удар, разбила ему очки, бросила его трепыхаться и барахтаться в его старом коричневом пальто, старик поднялся, и малыш нанес ему еще один удар, сбил его с ног, снова ударил, стоило тому приподнять задницу, малыш в белой футболке веселился от души.
юный поэт сказал мне:
— БОЖЕ МОЙ! ПОСМОТРИ, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ СО СТАРИКОМ!
— гм, очень интересно, — сказал я, жалея, что под рукой нет выпивки или хотя бы курева.
я направился в сторону дома, потом я увидел полицейскую машину и зашагал немного быстрее, малыш пошел вслед за мной.
— может, вернемся и расскажем им, что случилось?
— а ничего и не случилось, кроме того, что жизнь превратила всех в полоумных тупиц, в этом обществе самое главное — соблюдать два правила: не попадайся без денег и не попадайся, когда тащишься под чем бы то ни было.
— но он не должен был так поступать со стариком.
— старики для того и существуют.
— а где же справедливость?
— но это и есть справедливость: молодые карают стариков, живые карают мертвых, разве не ясно?
— но ты говоришь такие вещи, а сам-то уже старик.
— знаю, давай войдем в дом.
я вынес еще пива, и мы уселись, сквозь стены до нас доносилось радио дурацкой полицейской машины, двое двадцатидвухлетних малышей с оружием и дубинками вознамерились вынести безотлагательный вердикт по поводу двух тысяч лет идиотского, гомосексуального, садистского христианства.
неудивительно, что они прекрасно себя чувствовали в своей гладкой и упитанной, удлиненной черной машине, ведь большинство полицейских — попросту служащие с неплохим достатком, обеспеченные куском мяса на сковородке, женой с более или менее приличной жопой и маленьким уютным домиком в Дерьмовии, — они не задумываясь прикончат вас, лишь бы доказать правоту Лос-Анджелеса: мы вынуждены вас задержать, сэр, очень жаль, сэр, но это наша обязанность, сэр.
две тысячи лет христианства — и что в результате? радио в полицейских машинах, которые пытаются сохранить гниющее дерьмо, а что еще? бесконечные войны, мелкие воздушные налеты, уличные грабители, поножовщина, столько сумасшедших, что лучше об этом не думать, пускай себе носятся по улицам в полицейской форме или без оной.
короче, мы вошли в дом, а малыш все твердил:
— эй, давай выйдем и расскажем полиции о том, что случилось.
— нет, малыш, прошу тебя, что бы ни случилось — если ты пьян, ты виновен.
— но они же совсем рядом, пойдем расскажем.
— нечего тут рассказывать.
малыш посмотрел на меня так, точно я был каким-нибудь ничтожным трусом, а я им и был. свой самый большой срок в тюрьме он отбарабанил, когда его задержали на семь часов после какой-то студенческой акции протеста.
— малыш, по-моему, пора закругляться.
я бросил ему на кушетку одеяло, и он уснул, я взял две кварты пива, обе открыл, поставил у изголовья своей арендованной кровати, сделал большой глоток и улегся дожидаться смерти, как, должно быть, поступили Каммингс и Джефферс, как поступали мусорщик, уличный продавец газет, коммивояжер…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу