— Вы сказали, у вас их двое…
— Да, Карл и Лиза. Карлу три с половиной, скоро четыре, а Лизелотте два годика. Оба — дети войны. — И после секундного размышления: — Мне слишком редко удается их видеть…
Писатель (нетвердым голосом):
— Если мне дозволено заметить, герр Найгель, вы сделались отцом не в столь уж молодом возрасте…
И Найгель, который только что собирался потребовать, чтобы еврей немедленно прекратил совать свой длинный наглый нос в совершенно не касающиеся его вопросы, вдруг умолкает, обводит задумчивым взглядом прекрасно известное ему помещение собственной конторы, задерживается на зашторенных окнах, потом на Вассермане, вновь протирает покрасневшие от вечного недосыпа глаза и ровным, совершенно неагрессивным голосом поясняет:
— Да, моя жена в течение долгого времени не могла родить. Больше семи лет мы были бездетны.
Вассерман, еле различимым шепотом:
— Мы тоже так, герр Найгель. Восемь лет… Ну, да…
И в наступившем тягостном молчании, окутавшем обоих собеседников словно толстым шарфом, Вассерман изо всей силы сжимает челюсти, не позволяя жуткому нечеловеческому воплю вырваться из глубин своего существа. «Ну, — размышляет он потом, слегка успокоившись, — о чем тут еще говорить?» И сникает в тяжкой печали. Безмерная усталость наваливается на его плечи. Но гнева нет в нем, а если и есть, то он никак не обращен на Найгеля.
— Вернемся, если так, к нашему рассказу, — произносит он в конце концов со вздохом, как проводник безнадежно заплутавшего и обреченного каравана, лишь в силу инерции продолжающего вышагивать по гибельным пескам.
— Может, у Паулы все же будет ребенок… — с какой-то ребяческой наивностью не то предполагает, не то умоляет Найгель.
Вассерман:
— Нет, Паула умрет. — И, словно желая смягчить удар, прибавляет с нежностью: — Но Фрид пожелает уверовать, что младенец, которого нашел Отто, — это тот самый, которого не сумела родить Паула.
Найгель:
— В данном случае мне не остается ничего иного, как только присоединиться к нему.
— К сожалению, так. Однако младенец имеется. Так сказать, существует. — Вассерман предельно осторожен — как канатоходец, достигший середины натянутого над пропастью тонкого стального каната.
Найгель тоже не скрывает своего напряжения. Он уже не делает сочинителю никаких замечаний и не пытается подловить его на несуразицах и противоречиях. Оба они, как драгоценную ношу, с двух сторон поддерживают этот странный хрупкий рассказ, соединивший их столь прочными узами.
— Щеки Паулы пылали болезненным жаром, — живописует Вассерман, — пламя пожирало и иссушало ее тело, прекрасные ее белые и крепкие зубы начали крошиться во рту, кожа на губах растрескалась, и только грудь оставалась такой же пышной, молодой и высокой, даже еще больше налилась соками и так болела, что эта боль вызывала на ее устах страдальческие улыбки. Она словно извинялась перед Фридом за все неудобства и хлопоты, которые причиняет ему.
— Но, — говорит господин Маркус, — когда Пауле делалось особенно плохо (как правило, это случалось по утрам), и она спешила к унитазу, чтобы, не дай Бог, не запачкать постель, и ты, доктор Фрид, наклонялся поддержать своей рукой ее лоб, вы оба видели в маленьком озерце внизу отражение ваших лиц, которые были как два письма с известием, слишком долго проплутавшим неведомо в каких краях, и ты, Фрид, уже не мог обманываться. Ты все понимал…
И тут, на этом месте, Вассерман неожиданно захлопывает свою тетрадку, и, без всякой связи со всем происходящим и со всем только что рассказанным, улыбается счастливой улыбкой, и признается Найгелю, что этот вечер здесь, в его обществе, напоминает ему совсем иные вечера, те далекие дни, когда он еще не был женат, и в последний момент, буквально за несколько часов до сдачи номера в типографию, мчался в редакцию детского еженедельника, сжимая в руке очередную, только что законченную главу своей повести, и в великом волнении подавал ее Залмансону. Залмансон впивался в нее, как стервятник в долгожданную добычу, и принимался кромсать и править, и перечеркивал, и выбрасывал, и дописывал, как ему вздумается…
— А я сидел рядом и чувствовал, что это мою живую плоть он кромсает и режет, и пытался восставать и отстаивать, и ярились мы, и кричали, и спорили до изнеможения, и мирились, и к полуночи оба уже были совсем обессилены, а вся комната успевала провонять дымом мерзких его сигар, и тогда наступала вдруг — ну, как тебе описать? — такая приятность во всем теле легкость в костях, если ты понимаешь, что я имею в виду, герр Найгель, и принимались мы болтать Бог знает о чем — вообще ни о чем, и так это было хорошо и славно… В такие часы делился со мной Залмансон самыми сокровенными своими мыслями и рассказывал про себя разные невероятные вещи… А я молчал и слушал. Такие глубокие и тонкие, возвышенные материи умел он затронуть, когда хотел! И без всяких своих дурацких умничаний и злых шуток. О себе не мог я сообщить ему ничего. О чем рассказывать? О кошке, мяукавшей и мерзко вопившей всю ночь во дворе? О протекающем на кухне кране?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
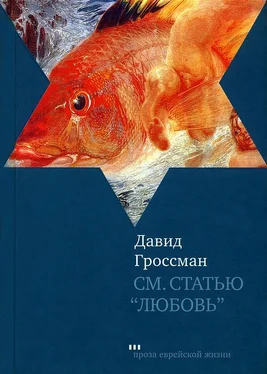


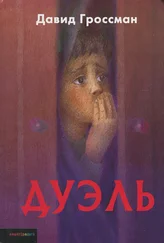


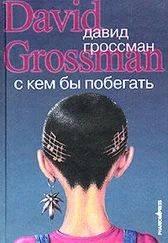

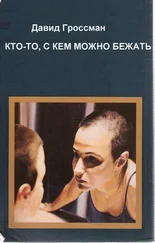

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
